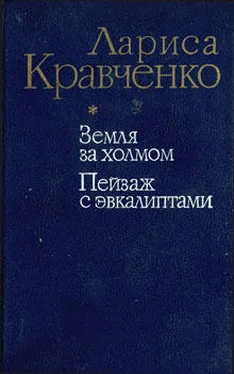Лёлька ушла из кухни в ванную, закрыла дверь на задвижку и стала чистить зубы с ожесточением. Она старалась не слушать, о чем они там разговаривают с мамой на кухне, но все равно было слышно через тонкую стенку.
Сначала они говорили о сегодняшнем балете и о Большом театре в Москве. Лёлька сунула лицо под холодную струю — только вода шумела в ушах. А потом они замолчали на кухне, тарелка звякнула. И мама сказала: «Нет, нет! — и еще раз: — Нет!..» И опять они замолчали, а Лёлька вся сжалась, словно она подслушала что-то недозволенное… Вода из крана лилась, надо было закрыть кран, но Лёлька не соображала ничего, и так плохо стало ей почему-то…
— Простите, — сказал Аркадий Михалыч. Мама опять звякала тарелками.
— Вас ждут дома, — сказала мама.
— Я не знаю, как у меня там — дома, — сказал Аркадий Михалыч.
— Надо верить, что все хорошо, — сказала мама.
— Трудно верить. Четыре года все-таки…
— Теперь уже скоро, — сказала мама.
Лёлька замерзла от холодной воды, и пора было кончать с умыванием. Она ушла к себе в комнату, потушила свет и легла, по, конечно, не выспалась. И все утро сегодня клевала носом на физике — благо, что не вызвали! Так и стояло в глазах яркое фоне ДКА, пушкинская Мария, и Аркадий Михалыч — непонятный и противоречивый!..
…Ее рука лежит на погоне с одной крупной звездочкой. Сейчас, наверное, конец танца — Коля играет последние такты. «Темная ночь…»
В комнате так накурили, что мама открыла окно, и из сада тянет холодом и запахом сухих листьев. Вот уже и сентябрь подходит к концу. Дожди прошли, и деревья стоят желтые, только сейчас в темноте этого не видно.
Темная ночь. Черные коробки танков вплотную к садовому штакетнику, и гулкие ночные голоса.
Октябрь. На бурую траву ложится иней. Утра — хмурые и зябкие.
Бледные костры колеблются на улице Железнодорожной. Лица серые в неверном свете утра, мятые солдатские шинели. Эшелоны уходят и уходят, и земля в ребристых складках застывшей грязи — это оставили еще танки Аркадия Михалыча.
И город весь — блекло-серых топов: темно-серые стволы деревьев и синевато-серый асфальт Большого проспекта. Город стал просторнее, словно комната, в которой вымыли к зиме окна. Может быть, это потому, что деревья почти облетели, и только кое-где на концах веток висят забытые жесткие листья. Когда набегает ветер, листья отзываются резким металлическим шумом.
Грустно и легко от этой пустоты, и странное ощущение, словно ожидание, живет в Лёльке, вопреки осеннему угасанию, как росток, который вот-вот должен распуститься.
Вечером шестнадцатого октября Лёлька не пошла домой после школы. И с девчонками не пошла в кино — ей не хотелось ничего такого, шумного. Она проводила Нинку до Модягоуского моста и одна свернула на гольф-поле.
Рыжие покатые холмы, заросшие травой, как шерстью. Кукуруза убрана, только торчат из земли сухие, колючие пеньки. Где-то здесь девчонки блуждали в июне по дороге на стрельбище. Тишина в нолях и невозмутимость, словно ничего не произошло, даже обелиск Чурэй-то торчит на горизонте, хотя фактически сметено все, словно и не было японцев. И нет, главное, этого страха перед ними, постоянного, за каждое свое слово, и унизительной ненависти, и беззащитности.
— Ну, теперь хоть есть кому заступиться, — сказал дедушка.
Лёлька шла домой но насыпи вдоль Саманного городка, смотрела сверху на деревья «Яшкиного» сада, в которых больше было черного цвета, чем красного, — листья облетели. Эшелоны шли по насыпи на восток, и Лёлька сходила на бровку полотна, чтобы пропустить их. Ветром ударяло в лицо от идущего состава, солдаты на платформах махали ей на прощание и кричали:
— Девушка, с нами! — совсем как тогда на Модягоуском мосту, в августе…
Удивительное все-таки случилось с ней на мосту, когда шли танки. Что-то неосознанное и стихийное, как подземный толчок, внезапно сломавший все прежнее… Пли все это закономерно и так должно было случиться рано или поздно? И это и есть то чувство Родины, что настигает нас неизбежно, где бы ни были мы, потому что человек не может жить с пустотой в сердце, а человек в пятнадцать лет — тем более.
…Родина — в сердце твоем: бабушкина плакучая березка, и князь Игорь из «Слова о полку Игореве», уходящий на чужбину: «О, русская земля! Уже ты за холмом!». Пушкин в черной траурной рамке на степе в школьном зале: год тридцать седьмой, столетие со дня гибели его. Пушкин, убитый Дантесом, и потерянная Россия, как-то странно слитые и детском восприятии. А совсем рядом — реальные бастионы русского Порт-Артура…
Читать дальше