Зубы сводит от этих звуков. Надо же, сколько аидов сразу — полный барак! И язык-то ведь мертвый, и народ его… И меня с этими зомби замуровали. Клаустроюдофобия! И какие же они все противные, один доктор Коган хороший. У-y, сыны Аама!.. Ядовитые мухи Гох! То ли барак их сделал такими, то ли встречал я их поодиночке, в рассеянье… А сейчас, скопившись, среди своих, по-домашнему, чего им таиться, втягивать жала в хвост!
Вечные тучи вечера пятницы на мгновенье раздвинулись, и в разрезе мелькнула, показалась первая звезда — явилась царица Суббота — курносая, зубатая, голая. Когда темнеет, тянет писать, что-то царапать. Бумагомаранье помогает от мрака. Это древний молитвенный инстинкт — кто его знает, уцелеешь ли к утру? Все дневники скорее — ночники. Письма брату Тео. Я достал блокнот — дар аптекаря, стал отщипывать от него листочки и покрывать их знаками. Потом приоткрыл скрипнувшее окно и принялся пускать эти бумажные кораблики в дождевые реки — Илия грядет — они плыли, уносились, впадая в сопливо всхлипывающие решетчатые ноздри водостоков.
И я писал: «Дно дня. Темно и сыро. Сижу, слюнявлю карандаш. Снимаю устало очки и ихней оглоблей чешу себе переносицу. Тоска, кручинища. Хрусть, как фрикативно плакался Коровьев киевскому дяде. Хрусть и печаль. Хочется продать Богу душу. Все у меня допрежь было, как у всякого русского еврейца — детсад (где был я цадик), школа (дразнили, дрались, драли краль, участвовал в олимпиадах по математике), институт (впустили — выпустили), гетто (свое, маленькое, уютное, скиния на кухне). А тут соплеменники явно достигают уже критической массы, того и гляди придет Мессия (и всех разгонит!). Волхвы из Кельна подтянутся… Куда ж бредем мы чередой, схватившись друг за друга? Куда гонимся, к какому яру?.. В эмиграции имеется, наверно, рацзерно, но навозно, и… передайте глаз, пожалуйста… и что это там брезжит впереди, светлеет — никак свежепобеленный тупик?.. Какая странная сила притащила меня сюда, на край Ойкумены, кинула в грязный барак и заставляет торчать в пятом номере под лестницей, как должное, под бормотанье дождя?.. Жажда Познания! Без нее мы бы и посейчас счастливо сидели на ветках, махали волосатым кулаком и кричали — хох, хох… Желание Нового поселяется в низовьях извилин — и вот уже ты, обезьяна под дырявым зонтиком, отважно идешь с котомочкой от ледяного белого моря к Беловодью, а уж идти я привык с детства, в огромном большинстве случаев — все вперед и вперед, а в детстве, помнится, замышлял стать хирургом, а потом капитаном нескольких кораблей. Так что же сидеть сложа руки! Раскалить полено и одноглазой Полине — в лоб! И бежать из этой пещеры… Вспять, а там — в ноги, к милосердным коленям припав. Так и так, позвольте искупить малой кровью — выдать пособников, начертить детальный план барака, графики уборок. Ну, дадут ремня (39 плетей), ну, сошлют в Медведково, к самоедам, ну ничего. Жид прощеный — что вор крещеный. Дома-то, в Москве-то сейчас хорошо! Вечер, тепло, снежок… Хрустит. Аннушка уже разлила и поднесла с поклоном, с соленым огурчиком, с кусочком черного хлебушка. Откушаешь, перекинешься башкою в лебеду, в прохладе полежать, прикрывшись истлевшим пиджачком — отдохновенно! Ох, и зачем я полез на эти галеры. Пришел человек к раввину и пожаловался, мол, знаете, ребе, плохо я живу. «Езжай в Германию». Эти мне советы! Да еще и как трудно-то было сюда добраться, попасть — порядка попасть в джинна финиковой косточкой, убить Гриффина лопатой… Ж-ж-жалко, что евреи не летают, разбомбил бы сейчас канцелярию, обгадил, с воем пикируя. А тут еще зубы разболелись от сырости. «Блюм, блюм», пускает пузыри дождь.
Улисс
Лисс у
Грина
Дублина резче.
Да, да, портовый городишко из раскрашенного картона временами более осязаем для меня, чем смутные размытые джойсо-дождливые потоки. Я даже брожу по нему, как всякий кошке, как желейная кошка под дождем, которая гуляла сама по себе («Какая странная прогулка!» — вскричала бы Алиса) на раскаленной крыше. Лужи у печки стоят. Лужи, лужи, целый океан луж, хлюпающих, может быть, даже мыслящих. Интеллектуальные возможности луж надо оценивать по шкале Кельвина (солярисного, конечно). Большая дождика. Ишь, громыхает! Это, вестимо, Хендрик Гудзон с командой своего «Полумесяца» режутся в кегли, стуча шарами. Так я вижу и слышу, и чую, и что поделаешь. Кусочки прочитанного, осколки скрижалей, впились мне в очки и желудочки. В стране ли Оз, на озере ли Одем — нет разницы, где жить, лишь — что читать. Как Эразм хвалил маразм, про монизм Спинозы и мудизм общины, или как поссорились раз Гегель со Шлегелем, а Гунька с Незнайкой… Чтоб были книги (красная, зеленая и желтая), было тихо и никто не лез. Пусть и вечером не приходят петь и играть, ну их, избавьте. Милый Яхве, сделай божецкую милость, возьми меня Отсюда!..»
Читать дальше
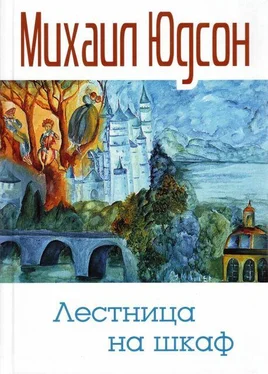



![Майкл Муркок - Кочевники времени [Роман в трех частях]](/books/395194/majkl-murkok-kochevniki-vremeni-roman-v-treh-chastya-thumb.webp)





