В дождливые прохладные дни Илья с готовностью превращался в затворника. Хотя доктор Полежаев, Тимоха-медун, как раз рекомендовал ему быструю езду на лошади под дождем, поскольку дождевая вода содержит «грозовые вещества», обладающие генетической памятью брички и пророчеств и обязанные глокочуще очищать, куздронжоглить душу, щедро промывать забитые канальцы. Илья же считал, что он и так достаточно чист и блажен, чтобы тащиться наружу и скакать мокнуть, и что лучше лишний раз промочить горло, чем ноги. Ладно бы еще от дождя и движенья вторая печень отрастала, а так… Поэтому он растапливал в спальне камин — а в спальне впрямь имелся камин, костер на дому, с изящной кованой решеткой, сопутствующими щипцами, мраморной доской, на которой были расставлены бронзовые фигурки человеко-зверей — и сидел возле огня. Уютно, как в Люке. После многодневья гнева бродин-и-бега приятно было никуда не спешить, не дергаться лицом. Сидишь сиднем, смотришь на огненный распускающийся красный цветок — а может, он тоже разумный? Илья клал в камин смолистые сучья можжевельника — для духу, для искусу услышать звон. Тут он и читал, устроившись в кресле и вытянув ноги к прирученному костру. Потягивал свежедавленное молодое красное из высокого узкого бокала. Бормотал под нос: «Виновато ли вино, что оно еще юно? Нет, вино не виновато, что пока не старовато». Стопка книг с закладками из кленовых листьев лежала на полу подле кресла — он читал по строчке сразу несколько, чтобы сливалось уицраорно, зоарно и зороастро в единый текст. Здесь была «Краткая история пространства» Жругра, «Проколы Мудрецов» Рудого и Датишного, «Вантовая биомеханика» Израэля Хендса (с вырезанными из страниц кружочками, что обостряло понимание), а также «Вечная боль в хрящах, или Ищи свищи» проф. Полежаева (ай да медун!) и много еще всего… Читалось славно, но самому писалось мало, только какие-то бедняцкие вирши навещали: «Солнце зеленеет, травушка кряхтит…»
Нередко, чаще ближе к ночи, прямо перед Ильей возникал Ратмир, и они беседовали. Ратмир иногда стоял, иногда сидел на корточках рядом с камином, иногда немного парил над полом. Это было преображение, очень четкое и объемное. Ратмир спрашивал, как прошел день, где Илья гулял, все ли удачно сладилось. Илья привычно жаловался на недающийся крест письма, на потрескиванье цитат, потертость сюртука, на тряску и недержанье рук («и руки тянутся…»):
— Всю жизнь я греюсь у чужого огня, стараюсь уяснить, доникнуть — не согреюсь, так догоню. И когда я костряю свои трактаты, жгу, свежо говоря, глаголом — я невольно сую туда уворованные угли из зачитанных книг, загребаю жар утащенных каштанов. А зоилистые псы-писари, прожженные листатели страниц, понимающе виня в заимствовании, в покраже клажи — ихних интеллектуальных кип Большого Хлопка, цельных тюков светильников — одновременно, виляя хвостом, бросают кость («Гав, но!..»), нахваливая вторичность, называя ее двоичностью, многомерностью, грызут звездную пыль (пиль!), даруют, мумурлыкая, мне мясо на ниточке, напослед выдергивая швы с мясом, навешивая собак — фас, ату, уперли! Все утопить… Лемуры в конуре! А я ж только — долблю и повторяю — чаял слиянья, стремил единенье текста — и чтоб в пределе одолело добро… Узреть просвета дольку, кусочек шоколадки в шоковом зеркале кошмара, треморно втиснутого в рамку романа. Сребро фольги и амальгамы… Заместо «критики» ввести рассмотрение, созерцание… разворачиванье с шорохом…
С Ратмиром не приходилось напрягаться, изгонять — брысь! — изгибающую спинку звукопись, подбирать нестерто и подбивать подметочно слова, покедова не разжуешь — отнюдь, нудь! — он еще пацаном, помнится, свободно владел книжным жаргоном, не отвык, мужик, и тыкал те же коды:
— Понимаете, Илья Борисович, вам бы надо понять и принять вот что — что, что бы вы ни сочинили впредь, это всегда будут сравнивать с вашим ранним, в смысле — с «Кабацкими псалмами», с салом и сливомаслом тех строф, ибо из-за особенностей, скажем так, вашенского дантиста, вместо пашквиля услышался святошный рассказ. А следовало бы уяснить и зарубить, просветить и высверлить, что «Каб Пса» писал «человек голодный» — без регулярных баб и ед, к тому же сидящий в сугробе, а не под пальмой, и в принципе не представляющий себе солнце отдельно от мороза — и все это просачивалось в вязкую глубину глины пломб палимпсеста. Отсюда такой винегрет вырастает и форшмак плывет. А на каждый чих давать в нюх — неэкономично…
Читать дальше
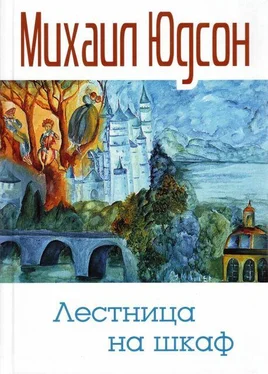



![Майкл Муркок - Кочевники времени [Роман в трех частях]](/books/395194/majkl-murkok-kochevniki-vremeni-roman-v-treh-chastya-thumb.webp)





