Ира возлегала плодово, Ил ползал вдоль аргусеницей, ласково грыз глазами ягодку. С бережным бешенством кусал присуху за сосок, из которого рос пучок травы. Дева в столбняке! Запасец неизрасходованных сил влечет почтительное слюнкоистеченье. Узы паузы. Она, королевна, безмолвствовала, он, трутень, бормоча, повиновался. Какое бы послушание я ни взял на себя — без любви я ничто! Я барахтаюсь, как в полынье, но за все благодарен судьбе — твое лоно живет по луне, мое время течет по тебе, уплывают минуты и дни, кормят завтраками на траве, но когда остаемся одни — останавливается мгнове… Спи, спи, Ир. Посапывай. Итак, это сон, моя милая… Рано еще, сиро еще… Скоро восстану, войду впритирку, станем целым, полноценным горячим Ирилом… Шемеш… С начала та ж я и с конца! Покатим: кол-лобок! Обцеловывал каждый лакомый кусочек кожи — о, мое кроватное сокровище! Слюнявил, лапал, щупал, щипал, оставлял засосы. Пестрый лапотник — это лона пробирщик! Расставив руки, прищурив глаз и покрививши набок рот, придирчиво всматривался — красотища! Похвала Ире — ей во славу, себе же в забаву (как писал про гарпий Горгий). Змея, покрытая очьми, раскрывшая пасть, не зряшно вытатуирована у нее вкруг левого бедра — око на окороке! — лобзаю вашу медузью роспись, Хозяйка Горы, государыня зайка и рыбка! А языкатая змея-то! Мне бы повстречать во рту такой язык — раздвоенный, так и ходит вилкой, билингвиний. Сколько зим, тапузим! Прыгай в рот, баккурот! Лезаенбать, мать вашу Машу Одигитриевскую, Отцову чашу… Бать-мать, святая семейка — застолбить… Опарафинить… Расслабься, Ириша, лишь краешком слушай: мне хорошо знаком твой организм, и я его извилины ценю, не лебезя, но вот душа твоя чуток мне поперек души, и я решился душу грешную ту вынуть (вскрыв левую лопатку) и омыть, баюкая в руках, освободить от всего мутного, квасного в ней, прекрасной, свершить обряд, проделать очищенье — опресноковый катарсис! Разве плохо — покрыться хрупкими хрустящими чешуйками мацы… Начать светиться… Огрести по полной. Другое агрегатное состояние… Некий мидраш — евангелие от Противного, хаванщина — утверждает, что до изгнания из Райсада первоголем-адам и ево мадам были покрыты роговым панцирем (у нас остался рудимент — ногти), то есть это были этакие ящеры на задних лапах. А тут — святая чешуя, маца. Мацой ее всю покрываю — мацаю. Ее кожа исправно превращается в мацу, тело и кукольное личико окукливаются, и с замиранием мы оба будем ждать — что там вызреет, когда струпья с шорохом отвалятся — кто, отряхиваясь, выпорхнет или выползет из кокона? Предивный обличьем — новой чешуей — Сверхпарх? А Лазарь его знает! Сложно так сразу…
Голос нежный и чуть хрипловатый, как гром в горах на хорах, прервал:
— Ил, драгоценный, окстись, ты ебстись начнешь, наконец, или так и будешь издавать невнятное?
Хотел ответить, убедить, улыбаясь — ввернуть свечку! — о, мой сердитый сердолик! храни и утоли! — исполню, душенька, всенепременнейше! — но не успел. Поскребя ногтем в дверь, вошел на цыпочках Кормилец, кроткий муж — в ночном колпаке с кисточкой и шелковой пижаме, спросил шепотом, приложив палец к губам:
— Ну, отпотифарил Ирку по всем меркам? Справил овуляцию? Ублаготворил? — он кивнул на полные неги — о, молочно-белый свет! — груди супруги, похожие на лежку пасущихся в сумерки белорунных богинь: — Кумысу попьешь парного? Я надою.
— Лучше потом, — сказал Ил. — Еще не закончили.
— Ничего, ничего, я тут тихо посижу, — замахал руками Кормилец. — Теперь я хоть знаю, как это было на самом деле…
9
…еле и краткий кроткий запах смолистый — словно повеленье торопко выдыхать пар слов главы недели, ели в серебре (да уж не в иле) застыли, ели с серебра (се ребро — вынул, дунул — иже на!) с пылу горячее — морозно, вьюжно, тундра, ндравы, тепло жены для ищущих приют, этичен спирт из пихт, а слепота снежна, и сколько литров лет отдал той лие москвалымской немытой — лиетрахец! — в краю пурги и туй, снегурион и гурман, приударял как мог, катался на снегурочках, нахал, отвянь, какого хвоя еще надо, и тает та, что на душе по уши, клубится кафедральный мрак, сад у подножья горки елеонской, сугроб сверкает, намело по горло, метели бедной оханье и плач, охота клубни выкопать и печь, ведь еле-еле в теле пеплится зола…
Я заразился яллабозначем, подумал он печально. Вновь одинок (вдвойне приятно), Ил сидел возле моря на трухлявом, раскрошенном водой и временем бревне. В таком и дриады не водятся, хороший друид их на улицу выгонит. Вон погода какая — благодать! Гуляй не хочу, до корчей. Утро ррааннее, зевнул он. Ира отлипла. Отлично. Морской травою зарастают раны. Целебный запах гниющих водорослей. Эх, Лазария, Смердичев наш!
Читать дальше
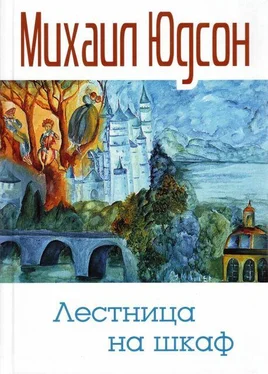



![Майкл Муркок - Кочевники времени [Роман в трех частях]](/books/395194/majkl-murkok-kochevniki-vremeni-roman-v-treh-chastya-thumb.webp)





