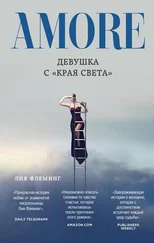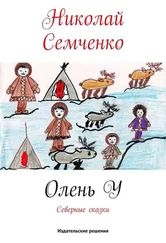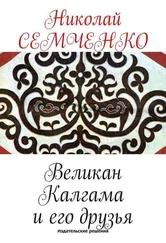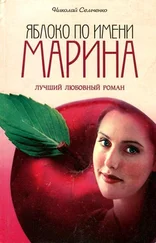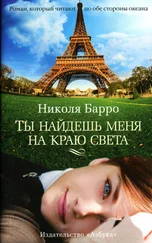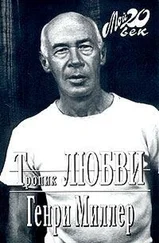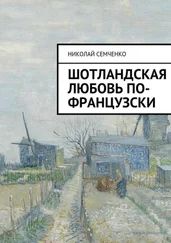Встречь Солнца
(Записки И. Анкудинова. Продолжение)
Интересно, что в трудах историков есть сведения о том, что собрав материал о низовьях реки Камчатки, Атласов повернул обратно. Именно тогда, за перевалом через Срединный хребет, он преследовал оленных коряков, которые угнали его оленей, и настиг их у самого Охотского моря. В «скасках» самого Атласова об этом происшествии говорится так: «И бились день и ночь, и… их коряков человек ста с полторы убили, и олени отбили, и тем питались. А иные коряки разбежались по лесам». Выходит, что аборигены не боялись «огненных палок» казаков? Во всяком случае, они не преклонялись перед пришельцами как индейцы перед испанскими конкисдадорами.
Потом Атласов снова повернул на юг и шел шесть недель вдоль западного берега Камчатки, собирая со встречных камчадалов ясак «ласкою и приветом». Еще дальше на юге русские встретили первых «курильских мужиков (т. е. айнов), шесть острогов, а людям в них многое число…». Казаки взяли один острог, «и курилов человек шестьдесят, которые были в остроге и противились, – «побили всех», но других не трогали: оказалось, что у айнов «никакого живота (т. е. имущества) нет и ясак взять нечего; а соболей и лисиц в их земле гораздо много, только они их не промышляют, потому что от них соболи и лисицы никуда нейдут» (элементарно: меха некому продавать).
От камчадалов Атласов узнал, что на реке Нане есть пленник, и велел привезти его к себе. Этот пленник, которого пятидесятник неправильно называл индейцем из Узакинского государства, как выяснилось позже, оказался японцем по имени Денбей. Атласов подробнейшим образом доложил потом в Якутске, что в Японии «соболей и никакова зверя у них не употребляют. А одежу носят тканую всяких парчей, стежыную на бумаге хлопчатой… К Каланской Бобровой реке приходят по вся годы бусы и берут у иноземцев (т. е у жителей Камчатки и Курильских островов) нерпичей и каланской жир, а к ним что привозят ли – того иноземцы сказать не умеют».
Петр Первый, видимо, узнав от Атласова о Денбее, дал личное указание быстрее доставить японца в Москву. Через Сибирский приказ была послана в Якутск «наказная память» – инструкция служилым людям, сопровождающим Денбея. Прибывший в конце декабря 1701 года «иноземец Денбей» – первый японец в Москве – 8 января 1702 года был представлен Петру в Преображенском. Переводчиков, знавших японский язык, в Москве, конечно, не нашлось, но Денбей, живший среди служилых два года, говорил немного по-русски.
После беседы с японцем в тот же день последовал царский «именной указ», в котором говорилось»… ево, Денбея, на Москве учить руской грамоте, где прилично, а как он рускому языку и грамоте навыкнет, и ему, Денбею, дать в научении из руских робят человека три или четыре – учить их японскому языку и грамоте… Как он рускому языку и грамоте навыкнет и руских робят своему языку и грамоте научит – и ево отпустить в Японскую землю». Ученики Денбея впоследствии участвовали в Камчатских экспедициях Беринга и Чирикова в качестве переводчиков.
Даже всё знающим учёным-историкам не известно, как далеко на юг Камчатки забрался Атласов. Сам он называет речку Бобровую, но уже в начале следующего века реки с таким названием не знал никто. Видимо, Атласов говорил о речке Озерной, куда нередко заходили из моря каланы – морские бобры. Но, кстати, он прошел дальше Озерной – совершенно точно добрался до реки Голыгиной, а «скасках» сообщил, что «против нее на море как бы остров есть». Действительно, от устья этой реки хорошо виден первый остров Курильской гряды с самым высоким из всех курильских вулканов. Дальше был океан, а в нем – Ниппонское государство, о котором так вдохновенно повествовал Денбей…
Ах, Ниппония – Япония! Как бы мне хотелось увидеть одно из твоих чудес – Сад камней. Денбей наверняка знал об этом творении дзэн-буддийского монаха Соами, который всего-навсего проиллюстрировал понятие «югэн» – «прелесть недосказанности». Я видел его лишь на картинке: на ровном поле у храма Рёандзи разбросано четырнадцать камней (вообще-то, их пятнадцать, но зритель всегда видит лишь четырнадцать!). От каменей, которые обрамлены снизу зеленым мхом, волнообразно расходятся круги расчёсанного граблями белого гравия. Вот и весь сад. В нём есть пятнадцать камней, один из которых всегда недоступен взору: его загораживают соседние камни. Сколько бы ни смотрел, как бы ни заглядывал снизу, сверху, сбоку – всегда видишь только то, что видишь: четырнадцать! Пятнадцатый – тайна: он есть, и его нет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу