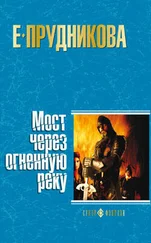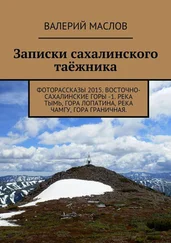Наконец она приходит в здание авиакомпании, где работает, и поднимается на тринадцатый этаж, там находится «Эдэн».
Борясь с нетерпением, она должна ждать лифта, который висит на десятом этаже. В большинстве офисов людям ещё рано уходить с работы, поэтому лифт не торопится вниз, а она в волнении притопывает ногой, снова по привычке смотрит на часы и много раз нажимает кнопку вызова.
Когда она уже перестаёт ждать, лифт, наконец, опускается и открывает перед ней свой скабрезный пустой рот.
Она входит в аккуратный металлический ящик, нажимает цифру «тринадцать» и прислоняет голову к стенке лифта. В глазах горят и мелькают цифры, а её при виде мелькающего табло охватывает сексуальное желание, и она хихикает от смущения. Каждый раз, когда она входит в лифт, ей представляется внутренность хорошо выпотрошенной курицы, и от этого накатывает тошнота.
На каком-то этаже лифт останавливается, и входит мужчина. Она почти автоматически выпрямляется, подходит к двери и наблюдает за ним.
Ей постоянно приходит в голову такая фантазия, что кто-то в лифте набрасывается на неё и пытается ею овладеть. А мужчина старается не смотреть в её сторону и упорно наблюдает за табличкой с цифрами на кнопках, на которой по очереди высвечиваются номера этажей.
Её глаза раскаляются от желания к незнакомцу, она их прикрывает и, собрав все свои силы, сжимает кулаки.
Она очень хорошо знает, что в ней всё время прячется вожделение, и старается держать себя в руках.
Она открывает незнакомому мужчине свою грудь и раздвигает ноги. А потом гладит его по волосам, покрытым перхотью.
Когда она думает, что действительно может протянуть к нему руки, мужчина вдруг наклоняется к ней. Она, вздрогнув от испуга, как червь, вжимается в стену лифта. Мужчина удивляется её такой неожиданной реакции:
— На какой вам этаж?
— На самый верх.
— А мне на двенадцатый. Вы не могли бы нажать кнопку?
Мужчина вежливо просит её и отодвигается.
Лишь тогда она понимает, что загораживает ему пульт.
— Ах, извините.
Она поспешно нажимает на нужную кнопку, когда лифт уже проходит одиннадцатый этаж.
Кабина останавливается, мужчина выходит, качая головой. Только тогда она замечает траурную ленту на его груди. Она опять остаётся в лифте одна, поднимается и думает, что сегодня она выпьет совсем немного или, наоборот, напьётся вдрызг, и слегка улыбается при этом.
Как-то раз, когда она вернулась с красными веками, я спросил, зачем она ходит на эту работу в «Эдэн». Это было, кажется, когда она только устроилась туда. Тогда она ответила, что просто там она может танцевать. Я никак не мог понять, что за удовольствие можно получать от танцев.
— Что за люди приходят танцевать?
— Как вам сказать, я сама никак не пойму. Они все такие одинаковые. Это какая-то заразная болезнь, которая легко передаётся. И хотя все разговоры там пустяковые, движения простые, там как-то уютно, все дружелюбные. Можно сказать, это своего рода полезная среда, питающая меня.
И она тихо произнесла: «Да, именно так. Именно так». В тёмном окне кривилось отражённое бледное лицо. Я всё это время смотрел на резкие морщинки на её лбу.
Я сходил по большому в ночной горшок, затем велел Субун купить хлеба. Я попросил булочки не с красными бобами, как обычно, а с кремом. Она принесла их, я съел эти булочки, всё время поглядывая на дверь в комнату снохи. А она в «Эдене» распадалась на две, на четыре, на шестнадцать частей, как амёба, и танцевала.
Нескончаемые капли дождя падали на глаза, становились острыми и мелкими, и чисто звенели, как кольца. Кольца расходились, образуя круги, как ореолы вокруг солнца, и звенели. Чем больше становились кольца, тем громче слышался звон, его уже нельзя было терпеть, и я закрыл ладонями уши, защищаясь от дребезжанья металла, и открыл глаза. Даже после этого звон продолжался.
Это был звонок телефона в её комнате. Пока они раздавались один за другим, кукушка на стене негромко куковала, заполняя промежутки между звонками.
Кажется, пробило семь часов.
В комнате совсем стемнело, можно было различить лишь углы мебели, потому что они были ещё темнее. Больше ничего не было видно. Я еле-еле перевернул своё тело, встал и раздвинул шторы на окнах. Оттуда тоже проникала темнота, и в этой темноте мерещились висящие летучие мыши. Голова сильно кружилась. Вся комната пропахла чем-то неестественным, это означало, что сознание моё помутилось.
В детстве, когда я просыпался, и не знал, какое время сейчас, вечер или утро, я со страхом смотрел в сад. Наверное, потому что истина, которую мы не видели за повседневными хлопотами, но чувствовали с тех самых пор, когда были лишь корпускулами, теперь проступала чётко; и от этого мне становилось страшно. Это был потрясающий поворот с того момента, когда я просыпался, до момента, когда я входил в обычную жизнь. Мать не понимала, откуда этот страх, она лишь похлопывала меня, плачущего, по спине и приговаривала: «Тебе просто приснилось что-то плохое».
Читать дальше