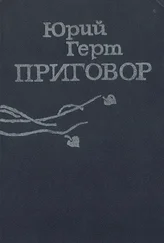— Давайте где-нибудь присядем, — сказала Айгуль. — Я устала.
Голос у нее и в самом деле был усталый, тусклый, и лицо, бледное от луны, выглядело утомленным.
Они отыскали на берегу лодку. Вытянутая на песок, она едва касалась кормой воды, а носом была пристегнута цепью к глубоко врытому в землю столбику. Звенья на концах толстой цепи соединяла дужка замка, размерами напомнившего Феликсу тот, что висел на двери «Бильярдной». Они забрались в лодку и уселись на средней скамеечке. Айгуль разгладила на коленях подол платья и плавным, скользящим движением провела по ногам, сверху вниз. Казалось, ей холодно, она внезапно замерзла.
Заметив, как она съежилась, он и сам ощутил на мгновение какую-то зябкость, хотя с моря едва-едва тянуло мягким ветерком, освежающим опаленную за день кожу.
— Вам холодно? — спросил он.
— Нет… Мне хорошо.
Озорное, мальчишеское чувство шевельнулось в нем. Глядя на тягучие, расплывчато-маслянистые лунные блики, колышущиеся за кормой, он подумал, как славно было бы, подвернув до колен брюки, зашлепать по воде вдоль берега, увязая по щиколотки в жирном иле, жмурясь от лунных зайчиков, тычущихся в глаза… А еще — столкнуть лодку на воду и и плыть, правя прямиком на луну, осторожно, бесшумно разгребая лопастями весел густое текучее серебро… Но луна светила так ярко, что берег, покрытый ракушками, был наполнен прозрачным, стелющимся над землей мерцанием, и казалось, что лодка, слегка покачиваясь с борта на борт, плывет по этому разлитому по берегу мерцанию, как по морской зыби.
Он подумал, что давно ему не было так хорошо, и еще — что расскажи он об этом, попытайся описать — все выйдет, до ужаса банально: и эта лодка, взрывшая килем сырой песок, и море, и луна, которую он привык не видеть — там, у себя, блеклую, затерянную среди бегучих реклам и фонарей и лишь случайно замечаемую вдруг на какой-нибудь остановке, в нетерпеливом ожидании автобуса…
— Знаете, Айгуль, — улыбнулся он, — только в такую ночь можно ощутить, что такое Восток с его магией, мистериями, Вавилоном, его храмами в честь богини Луны… И дело тут вовсе не в мистике, а в самом простом: на смену дневной жаре, солнечному зною приходит вот такая благодать… Удивительно, как во всем на Востоке сливаются рационализм и поэзия. Мне раньше это было невдомек. Но что-то эдакое я чувствовал… Даже в пустяке: приезжаешь в аул, еще вечер, но тебя слегка попоят чайком, позволят отдохнуть с дороги, и лишь когда близится полночь, когда только и мечтаешь добраться до подушки, тебя сажают за дастархан… Мне всегда казалось, что тут не только степное хлебосольство, не только необходимость подготовиться, чтобы принять нежданного гостя, но и какой-то давний обычай, ритуал…
— Еще бы, — Айгуль повернула к нему лицо, белки ее сузившихся глаз как-то странно блеснули. — Восточные владыки начинали когда-то свои пиршества с восходом луны. Плескались фонтаны, поэты читали стихи, а в разгар веселья на ковер выходили молодые красивые девушки, обнаженные, в звенящих браслетах, и танцевали под луной…
В ее голосе прозвучала затаенная насмешка. Он не понял — над чем?.. Она отодвинулась на край скамейки, перегнулась через борт, подняла с земли ракушку и склонилась над ней. Пальцы ее оглаживали продолговатую створку, счищая налипший песок.
Он почувствовал пробудившееся где-то в глубине души волненье. Это луна, подумалось ему. Это все луна, старый ты пес… Но между ними существовал барьер, который он сам для себя давно уже воздвиг и запретил себе переступать.
Шуршали волны, косым гребешком накатывая на плоский берег. Кое-где в низких местах неподвижно, как залитые отвердевшим стеклом, блестели лужи. Небо было пустынно, только приглядевшись, на нем можно было заметить две-три едва мерцавшие звездочки. Луна, повисшая в черной пустоте, казалась нарисованной.
— Луна теперь сделалась экзотикой, — сказал Феликс. — Или объектом для исследований… Но я помню, как в наш город летом приезжала опера, и я — тогда мне было немножко меньше, чем вам сейчас — после спектаклей возвращался домой, на далекую окраину. Автобусы у нас не ходили, трамваи мне были не по пути, я шел через весь город пешком. И вот, едва кончались улицы и я выходил на огромный пустырь, тянувшийся до самого моего дома, кто-то позади начинал петь. Чей-то мужской, очень сильный голос там, в отдалении, начинал звучать у меня за спиной. Вы только представьте — этот пустырь, тишина, в которой слышен каждый шаг, каждый стук каблука, и позади этот голос — такой заливчатый, серебристый тенорок… И такая же луна, как сейчас, и вся дорога блестит, всякий булыжник на ней светится, и этот голос, распевающий во всю мочь арию Герцога из «Риголетто», или «Санта-Лючию», или что-нибудь вроде, но чаще всего именно «Санта-Лючию»… Я каждый раз поджидал это мгновение — когда последние городские кварталы останутся позади и раздастся этот голос. И он тоже, по-моему, ждал этой минуты… Лежал где-то в груди, свившись клубком, затаившийся, а тут — прямо-таки выпархивал наружу, взлетал в самое небо — и уже не смолкал. Я тогда часто бывал в опере, мне нравились сильные страсти, арии перед рампой, музыка — все это слепило, захватывало… Но запомнился мне больше всего вот этот голос, как ни странно. Чей он был?.. Не знаю. Меня всегда подмывало — оглянуться, подождать, пока он приблизится, увидеть, кто поет… Но я ни разу этого не сделал. Что-то мешало… Казалось, оглянись я — и все исчезнет, и этот голос, и все его колдовство. А он, возможно, ценил мою деликатность. Ему наверняка не нужна была в те минуты публика, слушатели, — он сам для себя пел, от избытка чувств, счастья, именно счастья… Но, может быть, я ему все-таки был нужен. Хотя бы один-единственный слушатель… И вот он шел и пел, а я шел и слушал, и мы не знали ничего друг о друге, и знали такое, чего не знает никто…
Читать дальше