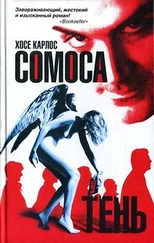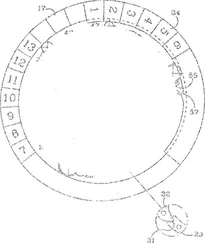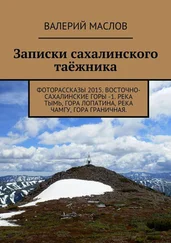— Я буду здесь. Сейчас я ухожу, — сказала она, когда подошел Сухопарый. — Но если ты не придешь… тогда читай газеты. — Сухопарый снисходительно улыбнулся, а она продолжала: — Я понимаю, ты мне не веришь… Ты ведь не знаешь, каково говеть в двадцать девять лет, в таком вот селении. Ты не знаешь, какая это мука, когда не можешь полюбить мужчин, которые не прочь воспользоваться твоей бедностью. Не знаешь, как тяжко завидовать женщинам, которые кичатся своей порядочностью и ни в чем не испытывают недостатка… Ах, что ты можешь знать! — заключила она, уклоняясь от его поцелуев, которыми он пытался утешить ее, все больше желая остаться. Но должен же он быть хозяином положения, черт возьми! И сказав ей несколько ласковых слов, он удалился.
Не успел он пройти и двух шагов, как она окликнула его с порога:
— Послушай, как тебя зовут? Я хочу знать, кого мне проклясть, если ты окажешься не мужчиной!
Он сказал ей свое имя. Ему и в голову не пришло соврать, как прежде. Нет, кому угодно, только не ей:
— Дамиан… Но меня прозвали Сухопарым.
До него донесся смех, приглушенный, но полный огня, почти вызывающий.
— Сухопарый… Это ты… Тебя так прозвали…
«Черт подери, их надо держать в узде», — подумал он и стал спускаться вниз по улице.
Когда он вышел на маленькую площадь, дверь с зеленой лозой, говорящей о том, что здесь винный погребок, распахнулась, выплюнув двух крестьян.
— Пошли вон! — раздался крик изнутри. — Вы что, не видели сплавного леса возле моста? Сплавщики заняли этот дом!
После свежего воздуха Сухопарого обдало резким запахом вина и дыма, от которого он едва не задохся. При слабом пламени коптящего светильника он увидел Двужильного и Балагура, переливавших вино из бурдюка в кувшин. Оно пузырилось, словно кровь, вытекающая из ножевой раны в груди, и оставляло красные пятна на руках мужчин. Вдруг Обжора нагнулся и, подставив под струю толстые губы, стал громко прихлебывать. Сухопарый оттолкнул его, и тот ткнулся в пол измазанным рылом. Возле кувшина, поглаживая бурдюк, становившийся все более дряблым, стоял тщедушный человечек в кашне и тщетно пытался воспротивиться произволу.
— Берите любое вино, только не это… не это… Разбойники! — наконец не выдержал он, видя, что никто не обращает на него внимания. — Хуже разбойников… Я должен знать, сколько здесь литров, должен отмерить!.. Разбойники!
Он совсем обезумел и вцепился в руку Сухопарого, который в бешенстве обернулся. Кривой поспешил отвести человечка в сторону, предупредив с самым серьезным видом:
— Не трогайте его, Константино. Лучше смиритесь.
Константино со слезами на глазах оглядел комнату, где уже царил полный хаос. Скамью опрокинули. В углу валялись сваленные в кучу багры. На стойке все было перевернуто вверх дном, из опрокинутой бутылки капало вино. В короткое время пол затоптали так, словно здесь прошел целый табун ослиц. На полках не осталось ни одного стакана, а единственную уцелевшую бутыль водки, настоянной на руте, как раз кто-то тащил вниз. С потолка свисали колбасы; Обжора срывал их вместе с гвоздями, и ел, не очищая. Сплавщики сгрудились вокруг истекающего кровью бурдюка со стаканами и кружками в руках. Человечек не видел вокруг ни одного участливого лица, не слышал ни одного слова утешения, если не считать тех, что сказал ему сплавщик, призывавший к смирению. Окончательно сдавшись, он отступил к самой темной стене и прижался к ней спиной.
— Эй, ты, — крикнул Балагур тому, кто взял с полки бутыль, — Оставь водку, она слишком быстро валит с ног.
— Хе! Рута очень полезна для брюха.
— Вот и жри ее!
— И то верно, — согласился Дамасо и, разбив бутыль о прилавок, извлек оттуда стебелек руты и стал жевать. Стебелек еще торчал из его жадного рта, когда он подошел к сплавщикам, сгрудившимся вокруг кувшина с вином.
Комната, освещенная слабым трепетным пламенем, была не столько грязной, сколько убогой и безрадостной. В таких сельских харчевнях живет, кормится, любит и умирает деревенский бедняк. Свет сюда поступал из крохотного окошка и застекленной двери, одну створку которой прикрывала картонка от календаря. Лестница в глубине вела в жилое помещение. Вещей было немного: прилавок, покрытый клеенкой, сосновая кадка, длинный стол, две скамьи, цинковая мойка для стаканов, да полки у стены, да пара-другая табуреток. Две полоски липучек были усеяны засохшими мухами. Печь и стену у светильника покрывала жирная копоть. На двери висела подкова. Ах да, еще на степе, прибитая четырьмя гвоздями, красовалась почерневшая фотография, вырванная из какого-то журнала, — единственная потуга на роскошь среди этой извести, земли и дерева. На фотографии девушка обнажалась с самым непринужденным видом. Возможно, то был кадр из какого-то фильма. Сорочка сползла к еще обутым ногам, и тело прикрывали лишь короткие трусики. Изящная поза и шикарная спальня с роскошной кроватью в глубине казались особенно нелепыми тут, в деревенской харчевне.
Читать дальше