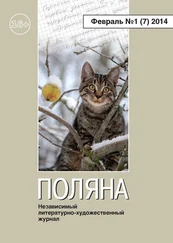Они на них не глядят даже. А те перья распустили, ходят, уж сами чуть ли не командуют всеми. Ну, вот и решили мы их ломать. Раз неподчинение приказу, второй раз «ми не можем», третий… Кто не может? Ты не можешь? И ты? А, все не могут?! Тогда всех на «губу».
На «срочке» — как раз я тогда комендантом «губы» был — привели пятерых, не помню уж кого, то ли кабардинцы, то ли дагестанцы, черт их разберет… Еле-еле их в карцер затолкали, сопротивлялись, кричали: «Ми тебя зарежем, ми всех зарежем, нам гордость и честь дороже жизни, нам все равно, что потом будет». В карцере ночью до нуля температура опускалась, за бортом на улице — минус сорок, жратвы нет, только хлеб и вода. И вот они мерзнут, но хорохорятся, пройдешь мимо, кричат: «Все равно вийдем, зарежем». Ничего делать не хотят, дашь им жрать, посуду не моют. Говорю им, не будете мыть посуду, не дам еды, все равно не моют, голодают, гордые слишком… не ломаются. Что ты будешь делать? И тут меня осенило. Взял я, да и рассадил их по разным камерам. Посмотрим, как вы, голуби, поодиночке себя вести станете? И что ты думаешь? Как шелковые сделались: и посуду моют, и полы драют, золотые хлопцы, тихие, послушные, про то, что резать собирались, и не вспоминают, не перед кем выставляться… То ж они друг перед другом перья распускали, показывали какие они храбрые, кто главный в стае доказывали, а как развел я их, так весь пар-то и вышел мигом…
Баранов разлил по стаканам остатки первой бутылки, вынул и откупорил вторую.
— Будем… Выпили по второй.
— В общем, обломал я их… Правда, однажды промашка у нас вышла. Камеры располагались напротив, а конвоиры обе открыли и урюков этих выводить стали. Вот этого нельзя было допускать ни в коем разе. Только они в проходе друг дружку завидели, тотчас, не сговариваясь, словно по команде на конвойных кинулись и за горло… Один парнишка сам отбился. Как двинул, тот с катушек долой, а второго оттаскивать пришлось, крепко вцепился, гад, повалил конвойного, пришлось оглушить мальца… Ну, как таким оружие давать? Они ж всех перестреляют. Тогда не только в карцер их не посадишь, или там слово не скажешь, а вообще их не найдешь. С оружием, они сами себе хозяева, уйдут домой, ищи потом в горах… Вот и сейчас то же самое… Когда они вместе их не сломаешь… Тут надо, как я тогда на гауптвахте, развести по углам, тогда они смирные… А теперь что ж, теперь только рубить под корень. А как иначе? Хочешь мирно жить — живи, а хочешь по-волчьи, ну, вот и получай… Я тут беседовал с одним, он у нас же в милиции служит, чеченец… Говорю ему: вас надо прореживать время от времени, отстреливать как волков, для вашей же пользы, а то, когда вас много, дурь у вас побеждает, кровь играет, себя не помните…. Так он согласился. Точно, говорит, правильно. Надо нас прореживать, такой мы народ, по-другому не понимаем…
Выпили еще по одной.
— Вот, наши ребята — другое дело, — продолжил Баранов. — Ко мне на «губу» как-то раз посадили парнишку русского, водилу комполка. Чем-то он тому не угодил. Не поладили. Поговаривали, что полкан по пьяни сел за руль и сбил кого-то; хотел, чтобы водила на себя наезд взял, случай не смертельный. Тот ни в какую… Месяц держали его в карцере, почки парень отморозил, но не сломался… Давай, братка, за наших…
— Давай, — согласился Казаков.
Бутылки опустели. Прапорщик, обтерев плечом дверной косяк, уковылял к себе. Казаков прилег на койку и повернулся лицом к стене…
В учебном центре под Ростовом, куда собирали офицеров из разных подразделений, чтобы худо-бедно подготовить их к службе на Кавказе, случалось всякое.
После теоретических занятий, на которых по большей части царил Морфей, отважные вояки толпой валили в тир, а после пили немилосердно. Когда на круг шло второе ведро, мир сужался до тесного кольца сидящих за столом героев, а земля качалась, словно палуба в бурю.
— Мы тут всякие лекции слушаем, ерунды разной набираемся… А что проку?.. — сетовал «дорожный инспектор» из Подмосковья лейтенант Дзюбак. Краснощекий и наглый, с круглой коротко стриженой головой, он всюду по-хозяйски совал свой нос, ходил вразвалочку, и в первый же день стащил из столовой электрический чайник. Товарищи звали его Гиббоном, по принадлежности к ведомству.
Напротив него за столом сидел капитан Людвиг из контрольно-ревизионного отдела по прозвищу Орк. Худое верблюжье лицо, тонкие губы и стальной взгляд выделяли его из остальных. В давние времена его предки перебрались в Россию из Европы и обрусели, оправославились, прижились на берегах Волги…
Читать дальше