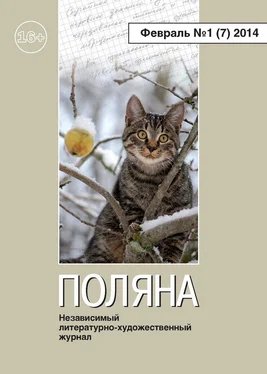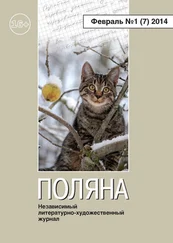Она прекрасно понимала, что лучше не вступать в спор со своим безумием. От спора оно лишь сильнее разгорится. А так, глядишь, и само собой утихнет, пройдет…
Она позвонила все тому же Грише Элькину.
— Так мы, Григорий Осипович, неудачники? — язвительно начала она. (Ей просто необходимо было выплеснуть накопившиеся эмоции.)
— Кто вам сказал? — Гриша возмутился с преувеличенной горячностью.
— Ваша Катя, причем с ваших слов!
— Она меня не так поняла! Напротив, я ценю ваш талант, Олечка, и Борис Евгеньевич…
— Да ладно! — рассмеялась Ольга. — Речь не о том. Может, и неудачники, кстати. Как-то это честнее в нынешней жизни. Все кругом удачники, бизнесмены, олигархи, любимцы счастья… Мне нужен адрес Немо. Он ведь тоже неудачник, как думаете?
— Зачем вам, Олечка? Неудачник — это про него слабо сказано. Он сумасшедший! Вторая женщина от него уезжает за одну неделю. Катя мне о нем такого наговорила!
— Ваша Катя просто интриганка! Попыталась вас поссорить с нами. Поссорила вас с вашей Маечкой… (Ольга запудривала ему мозги.)
— Мы уже помирились! — сообщил Гриша с радостным хихиканьем. — А Катя уехала. Терроризировала нас с Маечкой звонками и визитами. Даже к вам явилась и наговорила на меня… Она тоже сумасшедшая!
— Адрес! — напомнила Ольга решительным тоном. И Гриша назвал ей улицу, дом и квартиру. Но идти туда следует только вдвоем с Борисом.
— Конечно, с Борисом! — весело проговорила Ольга. (Как легко она стала врать, а ведь всегда предпочитала говорить правду!)
Днем Борис прилег вздремнуть, а Ольга сказала, что выйдет прошвырнуться. В квартире душно.
— Не заблудись! — крикнул Борис вдогонку. — Возьми мобильник, позвонишь, если что. Я встречу.
— Угу.
Какой благородный, тонкий, какой заботливый человек, ее Борис. Чего же еще ей надо?
Она бежала к улице, названной Гришей. Недалеко от мола. Каждый день они с мужем по ней проходили.
Может, его нет дома? Может, он не откроет? Может, Катя еще не уехала, а только собирает вещички?
Но Ольгу несло. Наплевать ей было на все. Если не попытается с ним встретиться, взорвется от странных, противоречивых, бурных чувств, в которых лучше не разбираться.
А так — увидит, снова увидит эту старую больную развалину, полуживого ипохондрика, и само собой, само собой все пройдет.
Лучше всего испытать отвращение. Гадливость. Брезгливое чувство. Лучше всего испытать именно это! Еще Овидий, кажется, советовал, чтобы разлюбить — представить что-то очень гадкое, что произошло с возлюбленным. (Боже, неужели ей мало того, как они его вели, полуживого, бессловесного, после падения с лестницы, и как Борис, передавая его Грише, брезгливо отстранился? Неужели ей мало?!)
Она решительно позвонила, не давая себе опомниться. Шаркающие старческие шаги. Дверь медленно, издавая противные ржавые звуки, отворилась.
Она увидела только глаза. Только два прежних горящих глаза, устремленных на нее.
— Оля?
Он говорил теперь тихим, надтреснутым голосом, глухим и сиплым, но интонацию она узнала.
— Яся? — проговорила она, и внезапно очутилась в его объятьях.
Он, этот старый и, казалось, почти мертвый человек, поднял ее легко, как перышко, и понес. С ее глазами что-то определенно случилось — она никак не могла представить его теперь тем неопрятным стариканом, который встретился ей на дороге. Теперь он тоже был небрит, но это ему почему-то шло, добавляло мужественности.
Он принес ее в гостиную и положил на диван.
— Подожди. Я приму душ. Это быстро. (В его сознании, судя по всему, время сместилось, и их новую встречу словно не разделяла бездна прожитых отдельно лет.)
Она хотела сказать, что он сошел с ума. Что она замужем. Что пришла для другого. Но и с ее головой что-то сделалось. Все помутилось.
— Да, вот свежие простыни. Хозяйка оставила.
Ольга послушно, как загипнотизированная, постелила на диван свежую накрахмаленную простыню. (Тут еще их крахмалили — какая патриархальность!)
Может, убежать? Она любит своего мужа! Этого человека она не видела много лет! И не вспоминала о нем! Это похоже на бред, страшный сон…
Он вошел в дверь совершенно голый. Он и прежде, несмотря на боязнь близости, любил демонстрировать перед ней свою наготу.
Ей тогда чудилось в этом что-то мазохистское, что-то от древних библейских времен, когда наготы еще стыдились. Когда она еще не мозолила глаза на экранах и на обложках журналов. Когда царица Мелхола, могла попенять мужу, царю Давиду, что он, танцуя, заголялся перед всем народом. Когда тот же Давид прельстился наготой чужой жены, увиденной им с крыши купающейся.
Читать дальше