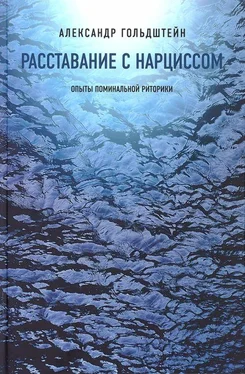Примерно в те же годы гораздо более прямодушная национал-коммунистическая концепция развивалась на Украине. Проповедовал ее «Микола Скрыпник, наркомпрос, самоубьется он позднее» (Б. Слуцкий). В определенной связи с этим кругом представлений находились и иные блестящие молодые интеллектуалы, которые, сколько можно судить по их осторожно-дерзким декларациям, явно рассчитывали на большее, нежели их национально мыслившие, но очень ортодоксальные партийные покровители. Если национал-коммунизм султан-галиевского толка (как бы его ни толковать) был обращен на Восток, то украинская национал-большевистская доктрина и политика (и уж вне всяких сомнений — идеи молодой интеллектуальной элиты) побуждали смотреть на Запад. Востоком для Харькова (тогдашней украинской столицы) была Москва, которая, напротив того, являлась индустриальным Западом для Султан-Галиева и политиков его ориентации — поистине, как если бы в Москве, этом двуликом Янусе, сконцентрировалась вся гипотетическая евразийская природа государства российского. Людьми из литературного центра конструктивистов Восток (традиционная Россия), как в его реальном, так и метафизическом и историософском измерениях, отождествлялся с безнадежным и злым болотом; ультразападническая же ориентация ЛЦК имела совсем немного общего с вестернизаторской позицией литераторов типа Хвылевого, связанной прежде всего с национальным возрождением и надеждой подальше убежать от Москвы в культурном и политическом смыслах [19]. (Эта позиция была радикальнее и уж куда как опаснее той, что занимали по отношению к английской цивилизации ирландцы Шоу, Синг, Йитс и Джойс, младшим современником которых был украинец Микола Хвылевый.) Но кое-что, как ни покажется это странным, сближало установки ЛЦК с султан-галиевскими или теми, что развивались в ВАПЛИТЕ, а также со сменовеховскими и евразийскими. Этот интегральный момент был устойчивой идеологемой того времени, и заключался он в том, что в большевиках многие предпочитали видеть силу, которая объективной логикой истории призвана к выполнению совсем не большевистских задач. Последние каждый был вправе понимать сообразно своим интересам, но надежда была общей: власть, что бы она там ни говорила, бессознательно пойдет наперекор собственной телеологии и энтелехии и, исполнив чуждый ей долг, благополучно уступит место формам правления, более адекватным стране и эпохе. Я рискую утверждать подобное применительно к Султан-Галиеву и участникам ЛЦК и ВАПЛИТЕ, основываясь на их текстах, изобиловавших вполне сервилистскими фигурами речи. Все эти люди прибегали к легитимной фразеологии, однако она была таким образом встроена в текст, чтобы ее оттуда можно было легко вынуть и прочитать то, что в нем содержалось на самом деле. Но мы еще вернемся к этому.
Россия в историософии ЛЦК (возвращаясь к прерванной теме) противостоит Западу не только как косная статика — умной динамике, но и как женщина — мужчине (Зелинский явно находился под впечатлением не упомянутого им бердяевского эссе «О „вечно бабьем“ в русской душе»). Женской земляной России нужен действенный мужской конструктивизм. Россия, как и всякая женщина, связана со стихией вязкого, податливого и обволакивающего, наподобие того как в манихейской книге Отто Вейнингера женственным и нетвердым представало еврейство. Но Россия и вообще связана со стихией, стихией как таковой. И женственное, а не мужественное ее крестьянство — в первую очередь. Потому его нужно преодолеть [20].
Тема разноликой стихии, которая противостоит то ли государству с его береговым гранитом и планиметрической мозговой игрой, то ли цивилизации в целом, — это вечная тема новой русской литературы, продолженная в 20-е годы и быстро ставшая едва ли не пародийной: кожаные куртки, железный поток, машины и волки и т. д. [21]Стихия, как правило, укрощалась, хотя были и впечатляющие исключения вроде «Епифанских шлюзов» А. Платонова и написанной в начале 30-х годов «Восковой персоны» Ю. Тынянова. Если, согласно Иванову-Разумнику, Петр свою вторую ипостась обретает в Евгении [22], то и Бертран Перри в «Епифанских шлюзах» являет собой ироническое повторение Петра. К смерти он приговорен Петром, и это знаменует своеобразное Петрово самоубийство, крушение Петрова дела: сковать железом государственности мутную российскую жизнь, насильнически ею овладеть, как женщиной. В результате насилие учиняется не над женщиной-Россией, а над мужчиной Перри, причем мужское начало здесь эквивалентно началу организующему. Стихия, в своем крайнем проявлении идентичная маниакальной организующей государственности, совместно с ней насилует Перри, отдав его на расправу палачу-гомосексуалисту, то есть убивает Перри уже как женщину. В «Восковой персоне», тоже написанной на условном и аллюзивном материале Петровской эпохи, показано странное корреспондирование отламывающихся кусков государственной структуры, еще недавно цельной, с омывающей ее со всех сторон злобной анархией. Заспиртованная, как в кунсткамере, власть перетекает куда-то в сторону, туда, где не видно настоящей телеологии, которая волею судеб становится достоянием тех, кто в перспективе должен со всякой телеологией покончить.
Читать дальше