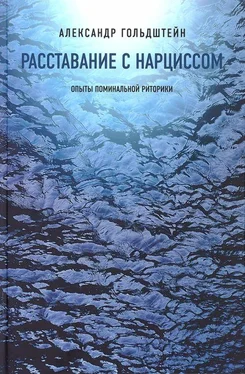Субстанция национального срослась у Сорокина с механизмами порождения речи, ее невозможно отжать. То, что казалось безобидной влагой, напитавшей пористое мясо основы, неожиданно отвердевает до кристаллов, образуя род органической солидарности с губчатым сверхвосприимчивым телом. Эта сорокинская русскость, которую медиумически завороженный «автор» принужден воспроизводить снова и снова, своей консистенцией превосходит даже мамлеевскую, не лишенную стилизованной этномифологической представительности. Я вижу аналогию лишь с прозой Валентина Распутина. Попутно замечу: деревенская литература столько лет была на виду, а не понята. Кто бы сказал Распутину, что был он в семидесятые годы единственным правоверным футуристом в словесности, точней будетлянином, ибо хлебниковцем. Мистик и националист, подобно учителю, он, во исполнение навряд ли хорошо ему известных заветов, сочинял свои лучшие повести на утопическом славянском наречии, плачевном, молитвенном и корнесловном, на котором никакой русский народ, за исключением отдельных героев «Доктора Живаго», отродясь не разговаривал. Вот он откуда, Распутин, от Хлебникова и Пастернака, да еще от Карамзина-летописца. Место ему в грядущей истории нашей литературы возле Сорокина, с поправкой на разницу дарований, у последнего оно более мощное. Валентин Григорьевич от таких наветов небось бы как черт от ладана шарахнулся, но сделать уже ничего невозможно. Авторов непоправимо роднит национальный утопический лингвоперфекционизм, невероятно преувеличенная языковая русскость, временами архаическая и сектантская. А то, что Распутин для Сорокина — один из видов подножного корма, так это забудется, улетучится, и ста лет не пройдет.
И, наконец, о том, что для меня наиболее интересно, отметил Сергей. Это флоберизм Сорокина. Он исповедует абсолютистское отношение к письменной речи, заставляющее вспомнить о Флобере периода «Бувара и Пекюше», когда тот извел себя поиском точного слова, причем я склонен трактовать сорокинский флоберизм не в метафорическом, но в строгом, содержательном смысле. Я полагаю, что великий француз дождался-таки преданного побочного сына на кириллических территориях, ранее ни сном ни духом не ведавших о подобном преемстве (одесский орнаментализм, конечно же, не имеет к флоберовской церкви даже отдаленного еретического касательства). «Сердца четырех» безличны, объективны и непроницаемы, как шифр инопланетянина, меж этих строк не просунешь и лезвия, так они пригнаны и точны, а самого «автора» в тексте нет и никогда не было. (Не удивлюсь, однако, если он вскоре в этом месте объявится — на пару с какой-нибудь обновленной йенско-гейдельбергской иронией.) Проза Сорокина держится на единственно верном словоупотреблении (в сущности, в этом ее главный секрет). Малейший лексический сбой, безболезненный для конструкции, допустим, мамлеевского типа (она устроена таким образом, что включает в себя и «небрежность»), ломает здесь всю постройку, что, к счастью, случается достаточно редко. Написанная с ледяным каллиграфическим прилежанием, огражденная и герметичная, как священный город, эта проза неуклонно препятствует намерениям ее «автора» не быть литератором. Напротив, в ней происходит максималистское усугубление литературы, если понимать последнюю как автономность письменной речи, вбирающей в себя всю вариативность знаков, в том числе и таких, которые иные интерпретаторы склонны были бы назвать асигнификативными — тем самым усилив их значение, каковую операцию постоянно проводит и сам Сорокин. Это еще, заметим, вполне авангардная ситуация, свойственная всему упокоившемуся московскому концептуализму. Вспомним об интенсивном геометризированном «безумии», о пафосе проникновения в «скрытые свойства предметов», об очень нетолерантном отбрасывании всего, что не способствовало достижению «чистоты» текста. Сколько бы ни манипулировал концептуализм с чужими языками и сознаниями, сквозь эту мнимую разноголосицу слышался и всю ее перекрывал ропот монологически развертываемой Теории. «Медицинская герменевтика», царствие ей небесное, умудрилась стать чуть ли не первым неавангардным объединением в продвинутом русском искусстве — ничего не беря в большом плане, она, ко всему прочему, и даже прежде всего, продемонстрировала комедийную идиотичность любой интерпретационной политики.
Стоит ли специально подчеркивать, что в глубине абсолютистского сорокинского флоберизма, как это всегда происходит в системах такого типа, самое место для обобщенно-безличной этики — необычайно строгой, ригористической, тотальной природы. Проще всего было бы сказать, что природа ее не человеческого лада и склада, что в ней выражает себя, допустим, ангельский чин и закон, но я не специалист по этим летучим предметам. У Яркевича, например, никакой этики и в помине нет. Дело не в «цинизме», а просто дуракам закон не писан. Этика ведь законническая, безблагодатная идеология, она для умных, таких, как Сорокин, а Яркевичу-дураку ее как своих ушей не видать. Он и пишет засаленным, теплым, пахнущим словом — очень «небрежным», разболтанным, личным. В тексте своем «Яркевич» торчит постоянно: «Как я и как меня». Небольшой, суетящийся, хвастливый. Его проза насмешлива, цинична, дураковата, растленна, бессердечна, грязна, забавна, неряшлива, но все это характеристики антропоморфного мира — в отличие от мира сорокинского, который, при всей его развлекательности, протягивает нити к непостижимому духовному опыту других существ. Письмо же Яркевича принципиально сохраняет за собой шанс дойти до человекоподобного адресата и его жизни, которая мелка, приватна, физиологична, уродлива, одним словом, человечна, то есть синонимична. Писатель короткого, как у лягушки, дыхания и чрезмерно раздутых рекламой, но характерных для времени способностей, он представляет концептуализм, из которого рукой онаниста вынуто самое главное: философия метода, идеология стиля, диалектика речетворчества. Яркевич — знак двойной реакции: на лингвоидеологемы, которыми некогда оперировал московский концепт, и на сам концептуализм с его непомерными притязаниями. Совокупляясь с новаторским материалом, концептуалистское говорение испытывало слово на прочность — уцелеет или не выберется из-под глыб. Для Яркевича, пришедшего после, такие эксперименты давно потеряли свой интерес. Они растворились в воздухе, и автор на них (из них) вырос. Текст остается пустым, потому что все значения уже были использованы и новых больше не нужно. В его сочинениях однако есть «содержание». Пародируя интонацию подпольного человека и тем самым пародируя совокупный русский Сверхтекст, Яркевич заново высвобождает присущие этой интонации тоску, жалость, страдание, он высвобождает неприличное чувство и снова включает его в словесность. Но Лимонов мне все-таки ближе, он мне по-прежнему занятней, забавней, — не вдаваясь в подробности несколько неожиданно отметил Сергей.
Читать дальше