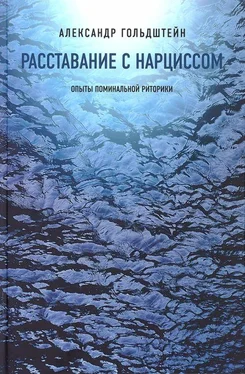Но вот что куда более любопытно. В русском постмодерне (автор «Бесконечного тупика» о нем говорит с отвращением, как обо всем, чему сам принадлежит) релятивизма днем с огнем не сыскать. Он монистичен и тоталитарен, как Истина с Правдой. Стремленье Сорокина написать палимпсест поверх всего корпуса национальной литературы, стремленье Галковского выкосить все русское поле, желание Пригова иметь под собой постамент из двадцати тысяч порожденных его персонажами текстов — таким релятивизмом не побрезговал бы и король-солнце. Чистая воля к власти, господству и обладанию. Русский тотальный проект, мистический и чудотворный.
И еще одно, самое важное. Галковский препарирует совокупную русскую письменность не для того, чтобы снова ее иронически полюбить по примеру постмодернизма. Он всерьез желает ей смерти (он ее до смерти любит). Находясь внутри самой жестоковыйной целостности — русской литературы (она же — русская цивилизация), по сравнению с которой любая Вавилонская библиотека кажется чем-то странноприимным и относительным, он намерен ее уничтожить, преодолеть. Пребывая внутри системы, он хочет быть вне ее. Он дискредитирует чуть ли не все типы русского высказывания, демонстрируя их недостаточность и поражение. «Бесконечный тупик», и это не преувеличение, претендует на то, чтобы закрыть весь русский текст вместе с его толкованиями. Таким образом, автор желает смерти и себе самому, и в этом последний нигилизм сочинения. Есть в книге очень русская приговоренность к определенному образу мысли, а не западный выбор его. Есть в ней жаркий воздух сектантского вдохновения. Легко угореть в этой церковке. Но, возможно, Галковский находится уже возле словесности, а не в доме ее. Таково мое мнение, завершил свой отзыв Сергей.
Я совсем было заскучал над Сорокиным, продолжал он в другом письме: ну сколько можно расчетливым движением подводить тексты к рационалистически-предрешенному речевому безумию, демонстрируя самоповторяющийся феномен языка, который услужливо заговаривается, чудовищно сквернословит, декларативно впадает в умопомешательство, экспозиционно кончает самоубийством — на радость типовым скуловоротным комментариям, на все лады трактующим о совокупных телах террора, о растворении индивидуального в коллективном, о насильственной перформативности речи и прочем, до чего не столь уж трудно додуматься. Но «Сердца четырех», долетевшие в рукописном обличии, вновь примирили меня с этим автором. Какой симпатичный ход — публикации текста помешали типографские рабочие, усмотревшие в сочинении глумление над человеком! Русский наборщик, возможно, даже в еще большей степени, нежели цензор или великий русский читатель, являет собой эмблематического охранителя русской словесности, раскачивающего нежную литературную колыбель и время от времени прижимающего младенца к своей темной сатиновой груди. Русский наборщик хохочет над текстом, восхищаясь его вольнолюбивой народностью, и он же иногда украдкой всплакнет, ибо текст соболезнует его участи, отождествленной с участью страдающего сообщества. Будучи своеобразным анти-Хароном, русский наборщик выпускает сочинение из свинцовой темницы на волю и в жизнь, но прежде чем оно, трепеща крылами и воскрылиями, полетит над бескрайним отечеством на манер жаждущей собеседования Платоновой души, наборщик удостоверяется в наличии посвятительной жертвы (не забудь, мы должны Асклепию петуха!), которую обязан принести русский текст. Сия священная жертва искони предназначалась русскому гуманизму.
«Сердца четырех» — решающее русское путешествие на путях преступления, идеала и самоубийства. Его персонажи образуют некую церковь, неумолимо требующую в финале, по нашей литературной традиции, заклания страдающего дитяти. Это мистическое странствие, долженствующее доказать нечто самое главное, для чего в языке еще нет названия. Сорокинская манера сохраняет здесь свое важное свойство — неподражаемую развлекательность (развлекательно все продвинутое русское искусство последней четверти века), усугубляя его чем-то внезапным и новым, так что от книги поистине нельзя оторваться, как не мог оторваться от зрелища искалеченных трупов персонаж «Государства» Платона: «Скажи-ка, Сократ, что бы это значило, почему я смотрел на них против воли?» — «А ты сам поразмысли, милейший, не все же мне тебе отвечать». Нечаянной радостью, закономерно востребованной традиционным сюжетным повествованием, стала для меня возникающая ближе к развязке эмоциональность и возможность гротескного отождествления с истерзанными персонажами, которые, конечно, заслужили читательское сочувствие всеми своими мучениями и смертью. И все же: зачем ему это понадобилось, спросил бы я, словно речь идет о кончине Талейрана?
Читать дальше