Так о чем он говорит, что обнаруживает за словами? Когда приведет нас к окончательному разграничению сложившегося языка от языка нарождающегося, отделив от них обоих праздник самого поэтического акта?
Старый и сохранивший свои пристрастия символист, Валери видит в поэзии предельное осуществление языка, но введенное им отличие действия поэта от поэтического произведения до того хрупко, что ухватить его под силу лишь все той же простейшей причинной связи. Прежде чем явиться на свет и утвердиться в реальности, творение проходит стадию внутреннего созревания, предначертанную как своего рода замкнутый удел, особая сфера деятельности. Однако как это все воплощается в произведении искусства? Подобный механизм невозможно обособить и передать по отдельности: ради поучительного эффекта действие приходится опять начинать сначала, так что лишь этот механический труд и предстает перед нами в качестве завершенной вещи, а пружины ее порождения так и остаются скрытыми и в окончательном результате, увы, неразличимыми. Генеалогические возможности языка Валери дополняет анализом слова как действия. Воплощенный анимизм, язык становится у него учебным материалом в курсе истории духа, которая ведь и сама-то образована отцеживанием достигнутого и совершенного, иначе говоря, «трактовкой языка как главного произведения лучших произведений литературы». Это, надо сказать, наиболее изученная сторона искусства: использование «фигур» давным-давно расклассифицировано аристотелевскими риториками. Умножая фигуры, поэт, как предполагается, вводит нас в акт рождения самого языка. Другие, не столь однозначные обстоятельства — вдохновение, впечатлительность — так или иначе ускользают от контроля самовластных всеведов. Тем напраснее надеяться, что эта область механического упразднит внезапность отрывка, капризы или пристрастия люциферических сил и проч., ведь и дефиниции, расчленения и понятия в философии при всей их остроте и меткости ничуть не приближают к познанию как акту сопричастности или единения. Вероятно, лишь кафолическая по духу поэзия, где никто не может быть уверен, что предызбран к спасению, а последствия обособления внутреннего мира остаются скрытыми до самой последней и всеобщей развязки, способна дать высшее и подлинное значение, ключ или символ грядущего рая. Это «разумение столь тонкое, что выводы его кажутся озарением свыше» — озарением после искупительных испытаний, отсроченной милостью, которая вправе, наконец, позволить себе праздник исполнившегося пророчества.
Так придем ли мы когда-нибудь к точному определению небезопасных поныне слов «форма», «ритм», «заимствование», «вдохновение», «композиция»? Не таким ли символом входит в формулу математика слово «бесконечность»? Жаль, что, стремясь к исчерпывающей точности описывающих поэзию слов, Валери тратит столько сил всего лишь на замену автора производителем, читателя — потребителем, а милостей истории — рукотворной ценностью произведения искусства. Сумеем ли мы добиться в художественной оценке той степени точности, которую слово «ценность» — во всей совокупности духовного и исторического содержания — имеет в экономике? Достигаем ли результата, заменив милость материи пригодностью к обработке удобным для нас инструментом? И не возвратимся ли однажды к старой теологии, спрашивавшей, удостоверено ли блаженное присутствие мил остью слова или силой, действующей в нем и приуготовляющей Вознесение?
Поэтому осторожнее с числом. Используя его как средство защиты иди самоутешения, можно просчитаться и упустить нечаянную радость. Не забудем, что Уильям Блейк поместил своего Ангела {410} 410 … Блейк поместил своего Всепроникающего Ангела … — Отсылка к поэме Блейка «Бракосочетание Рая и Ада».
Анализа между Сатурном и небом неподвижных звезд. Между самоуничтожением и постоянством сотворенного мира — его несокрушимым диамантом.
Июнь 1938
Познание спасения {411} 411 Переведено по книге «Устройство времени».
И окружен человек безжизненной неизмеримостью проклятого. «Земля же была безводна и пуста {412} 412 «Земля же была безводна и пуста…» — Быт. 1, 2.
, и тьма над бездною». Но Святой Дух и горний свет сошли в мир. Иначе говоря, перед лицом мира мы несем миссию познания и проклятие времени. Познание и время — милость и фатум — правят в душе человека повозкой, влекущей его к смерти. Поэтическое познание — не то же, что познание диалектическое, озабоченное лишь поисками своего зеркального подобия. Дюамель {413} 413 Жорж Дюамель (1884–1966) — французский писатель, цитируется его эссе «Поль Клодель» (1919).
заметил, что по любой странице Клоделя чувствуется, насколько важно для него понятие времени. Раз за разом, добавляет он, держащий речь вглядывается в небо, угадывая положение звезд и нарекая по имени новую пору года. Мир неустанно бросает вызов, но человек наделен способностью познания, и суть этого поэтического познания — в открытии и наречении по имени, поскольку милость заклятия составляет саму возможность жизни. Слово только и возвращает себе силу в этой милости и способности заклинать вещи, похищая их имена. Nous les appelons, en effet, nous les évoquons [83] Мы именуем, а на самом деле — вызываем к жизни (фр.).
{414} 414 «Nous les appelons, еп effet, nous les évoquons» — из эссе Клоделя «Поэтическое искусство» (1907).
. Во французской литературе триумф человеческого слова, по свидетельству Шарля Дю Бо, воплощает Поль Клодель. В голосе Клоделя объединяются все регистры, его октава — само пространство человеческого слова. Неудивительно, что он хотел бы мерить свой стих ритмом дыхания. Непроницаемости внешнего мира поэзия противополагает решимость заместить его в акте заклятья — способность, возвращенную себе человеком после утраты невозможного диалога с природой, после того, как ему укоротили взгляд и отпугнули от языка осязания. В этом клоделевском заклятии — милость, рождающая в нас трепет, способный заместить сам предмет. Иначе говоря, поэтическое познание — единственная возможность проникнуть во враждебный или все еще закрытый для нас мир. Понятно, что для Клоделя это познание в библейском смысле слова, куда как далеком от стерильности, которую оно обрело со времен Ренессанса, став познанием a posteriori, повторением опыта. Любое творение, учит Клодель, не только творимо, но и творяще. В поэтическом творении есть, стало быть, скромное достоинство физического труда, поставленного опыта, спровоцированного результата — своего рода толчка, доходящего до самых глубинных слоев материи, как ее понимают картезианцы, но еще точней — Лейбниц, объединивший субстанцию со становлением. Клодель, так напоминающий живописное царство Сезанна, хоть и погружается в готическое ремесло с ненасытностью верующего, неизменно хранит приверженность к средоточию материального, а не к интеллекту или инстинктам — грех Валери и сюрреалистов. Этим он уходит от краха, подстерегающего послевозрожденческое искусство, сведенное до рваного контура либо безжизненной линии. Когда Клодель говорит, что поэзия — не метод, а средство (и все-таки — новый метод, воскликнет он поздней, вспомнив об опиуме Кокто), он верен своим готическим склонностям, в которых куда больше от рога, нацеленного на Господа, чем от праведника, пристроившегося на пятачке собственного спасенья: он привязан к субстанции, а не к сущности. «Чувственный инстинкт, — пишет Шиллер, — заключает человека в рамки времени, делая его физическим телом». И добавляет: «Этот инстинкт требует постоянной перемены, протекания времени. Подобное состояние протекающего времени и называется способностью чувствовать». В состоянии чувствования, рискнем мы подытожить Шиллера, человек есть всего лишь количественное единство. Перед нами царство абсолютного восприятия — восприятия, не сводимого к понятию и обнимающего все певучее пространство наслаждения от первого, произвольно рвущегося междометья до чувства, следующего a posteriori. Поэтому, смакуя любое удавшееся стихотворение, мы слышим несмолкающий призвук счастья, эту надбавку шедевра, которой однажды обмолвился Андре Жид. Отчетливую границу между поэтическим и диалектическим познанием кладет именно ностальгичность диалектики, привкус ее грядущего отчаяния и краха. Напротив, поэтическое познание в силах возвыситься своей хвалою до Бога и успокоиться в Нем. Если трудами человека творение может подняться до полноты счастья (а гордыня бунта, по сути, противоположна поэзии), то человек, вспомним только что цитированную фразу Шиллера, как бы склоняется перед временем, которое обращает его в вещь, оставляя неприкосновенным достоинство. Соотносясь с пространством, творение возвышается до хвалы и от первобытного выкрика приходит к настоящему молитвенному заклятью. Поток времени вновь возвращает его к моменту падения, первородному греху, тоске предстоящей смерти. Когда Кьеркегор называл свой образ мыслей «качественной диалектикой», не посредством ли поэзии думал он поймать quiditas [84] Содержательность, предметность, буквально — «чтойность» (лат.).
?
Читать дальше
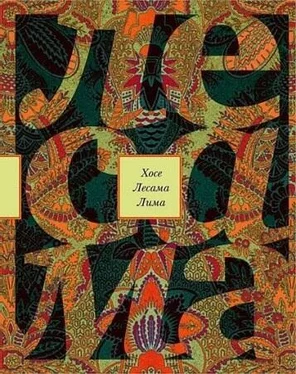

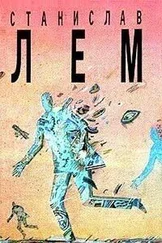


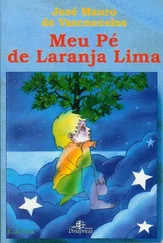


![Холли Блэк - Десятина [= Зачарованная] [litres]](/books/399985/holli-blek-desyatina-zacharovannaya-litres-thumb.webp)


