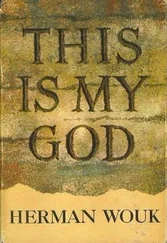Моя работа в этой администрации подходит к концу. Президент скоро падет; это стало почти неизбежным после «субботней резни» 20 октября, когда ушли в отставку министр юстиции и его заместитель, отказавшиеся уволить специального прокурора по Уотергейту. Но я ухожу не поэтому. Я очень изменился в результате этой войны и, до некоторой степени, также из-за того, что писал эту рукопись.
* * *
Свои прощальные визиты я начал сегодня утром, поехав на такси в иерусалимскую больницу «Гадаса». Машин на шоссе было даже больше, чем обычно: в этом отношении, по крайней мере, все опять вошло в норму. Я приехал на полчаса позже, чем рассчитывал, и еще издали увидел необыкновенное зрелище: моя мать самостоятельно вышла из больницы на яркое иерусалимское солнце, опираясь на трость и сердито отталкивая мою сестру Ли, которая пыталась взять ее под руку; за мамой семенила ее компаньонка-пуэрториканка. Позже Ли рассказала мне, что когда пуэрториканка пыталась помочь маме идти, та огрела ее по голове тростью.
— Где ты был? — спросила мама, когда я поспешил к ней. — Почему тебя здесь не было, когда меня выписывали? Ты был на фронте?
— Мама, война кончилась.
— Я знаю, что война кончилась! — раздраженно сказала мама, пытаясь скрыть, что она об этом забыла. — Я спросила: был ли ты на фронте?
— Мама, мне пятьдесят восемь лет.
— Ну и что? Разве Линдберг во время войны не был старым генералом, и разве он не пошел на фронт? — Она засмеялась. — Мой Линдберг! Я уверена, что ты был на фронте, — она указала пальцем на небо, — ты просто не хотел меня волновать. Когда ты пошел в авиацию, папа чуть не помер со страху, но я ему сказала, что ты будешь новым Линдбергом; и, помнишь, я летала по комнате и говорила: «Бррр! ЖЖЖЖ!».
Мама снова начала слабым голосом подражать звуку самолета и, раскинув руки, снова стукнула пуэрториканку тростью, на этот раз не нарочно. Своим компаньонкам мама неплохо платит, но они эту плату отрабатывают синяками. Почему они, при всем этом, трогательно ее любят, выше моего понимания.
Мы четверо едва влезли в крошечную машину генерала Моше Лева.
— Как тебе нравится твой новый шурин? — спросила мама, когда мы тронулись.
— Ах, мама, не говори глупостей! — сказала Ли, покраснев, как будто ей была шестнадцать лет, а не шестьдесят два.
Моше Лев, мрачно глядевший вперед на дорогу, на секунду обернулся к ней и улыбнулся.
Я спросил генерала Лева, что он думает о попытках американского государственного секретаря оказать нажим на Израиль на переговорах по разъединению войск — для того чтобы спасти попавшую в кольцо египетскую третью армию, не требуя при этом ничего взамен от побежденных египтян. К моему удивлению, Моше Лев ответил, что государственный секретарь поступает совершенно правильно. Израильские политики, сказал он, сами никогда не делают того, что нужно, чтобы добиться мира. Если американцы их на это подтолкнут, используя в качестве рычага воздушный мост, то, может быть, появится шанс заключить с Египтом мирный договор — впервые за всю историю Израиля. Я вскользь упомянул о том, что государственный секретарь — еврей. На это Моше Лев. пожал плечами и сказал:
— Он американец и работает у американского президента. Он делает свое дело.
* * *
Могила «Зейде» находится на кладбище под Тель-Авивом. Когда «Зейде» приехал в Израиль, ему было восемьдесят восемь лет, и он прожил еще семь лет в полном здравии. После этого он стал слишком слаб, чтобы о себе заботиться, а в его крошечной квартирке больше ни для кого места не было, и его решили поселить в доме для престарелых — лучшем в Тель-Авиве приюте такого рода для религиозных стариков. «Зейде» побывал там и сказал, что ему там нравится. После этого он вернулся докой, лег отдохнуть и умер. Его похоронили рядом с могилой одного великого талмудиста — на участке, который он купил, как только приехал в Израиль.
— Папа, здесь Исроэлке, он хочет с тобой проститься, — сказала мама на идише, когда мы стояли у могилы, обливаясь потом после долгого блуждания среди надгробных памятников под палящим солнцем. — А я никуда не уезжаю. Бог дал мне еще немного жизни, и я хочу прожить ее здесь, и здесь пусть меня похоронят. Бедный Алекс лежит один в Америке; и, может быть, дети когда-нибудь перевезут его прах сюда, а уж я со Святой Земли больше не уеду.
Своими уже почти незрячими глазами она ухитрилась найти на земле какой-то камень и положила его на могилу — таков наш древний обычай.
Читать дальше