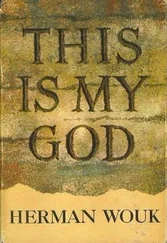С того дня, как я прочел эту речь, прошло тридцать пять лет, но я помню, что начал я с довольно тяжеловесных рас-суждений о том, какова природа юмора, который я назвал Божьим утешением, ниспосылаемым человечеству в его земных злоключениях. Я и до сих пор так думаю. Потому-то я и согласился взять на себя защиту Питера Куота. Каковы бы ни были его неврастенические, невежественные издевки над еврейством, он преобразовал их в избавительный смех. Я указал, что наиболее любимые человечеством писатели — Марк Твен, Мольер, Диккенс, Сервантес и наш Шолом-Алейхем — это писатели, которые заставляли людей смеяться. У Гарри Голдхендлера, сказал я, не было никаких иллюзий относительно того, что представляет собою его радиоюмористика; он был человеком большого таланта, но посвятил его созданию недолговечных развлекательных программ, и это давало ему удовлетворение.
— Наши отцы приехали в «а голдене медине», веря, что здесь улицы усыпаны золотом, которое нужно лишь поднять, — сказал я в заключение. — Мой шеф обнаружил, что это правда, но он изнурил и убил себя, пытаясь поднять слишком много и слишком быстро. Миллионы людей смеялись, слушая по радио шутки популярных комиков, и никто не знал фамилии человека, который на самом деле их смешил. Если бы они знали Гарри Голдхендлера, они, возможно, любили бы его так же, как любил его я.
Когда я вышел из синагоги на тротуар, заполненный расходящимися прихожанами, ко мне кинулась мама:
— Ты говорил чудесно! Пойдем к нам, мы пригласили кучу людей. Папа хочет в память о Голдхендлере почитать кое-что из Шолом-Алейхема.
— Может быть, у него другие дела, — сказал папа, увидев, как я бросил взгляд через улицу — туда, где в тени дома стояла Бобби. Это был единственный раз, когда он ее видел.
Я сказал, что, может быть, подойду попозже, и поспешил к Бобби, которая уже двинулась прочь.
— А, привет! — сказала она. — Разве ты не хочешь пойти со своими родителями? — В ответ я взял ее под руку. — Стыд и позор, что здесь не было жены и детей Голдхендлера. Это была замечательная речь, насколько я могла ее понять. Конечно, многое до меня не дошло — все эти выражения на иврите и так далее.
— О чем ты говоришь? Да я сказал на иврите разве что одно или два слова.
Она резко остановилась, отняла руку и поглядела на меня.
— Ты что, серьезно? Дэвид, да ты швырялся ими не переставая. Твои слушатели все понимали, но я, конечно, — нет.
Я мысленно восстановил в памяти свою речь и сообразил, что я действительно довольно часто вставлял слова на идише, который, учитывая обстановку, я и не воспринимал как иностранный язык. Бобби же, конечно, не могла отличить идиша от иврита.
— Тебе было хорошо слышно?
— О, да. Эти женщины сидели очень тихо. Милый, там, на галерее, все тобой восхищались. И, кстати, некоторые как-то странно на меня поглядывали. Или, может быть, это мне только казалось от смущения.
Войдя в квартиру Морри Эббота, Бобби сбросила туфли и забралась с ногами в кресло. Мы пили виски и говорили далеко за полночь, я рассказал ей, как во Флориде Голдхендлер за несколько дней заново переписал текст «Джонни, брось винтовку». Это было для нее новостью. В труппе, по ее словам, говорили, что Голдхендлер лишь пытался вставить в текст несколько избитых шуток, но Лассер все это выбросил. Она понятия не имела, что сцену в госпитале, которая спасла спектакль, написал Голдхендлер.
Заговорив о мюзикле Скипа Лассера, мы вспомнили и о том, как началась наша связь. Бобби грустно заметила, что квартира Морри Эббота не очень романтичное место для свиданий, и она скучает по нашему с Питером прежнему номеру, откуда были видны небоскребы, и река, и светящиеся часы на «Парамаунте», по хемингуэевской подушке и гардениям. Ни она, ни я ни словом не упомянули о том, что недавно я опять сделал ей предложение. Между нами не ощущалось охлаждения, но была какая-то странная сдержанность. Бобби ушла в два часа ночи, по-сестрински поцеловав меня у лифта.
На следующий вечер, когда кончился шабес, я позвонил папе и сказал, что хочу с ним потолковать. Я застал его, когда он уходил на заседание сионистского общества, где он должен был председательствовать. Он сказал, что если я пойду с ним, он при первой возможности попросит, чтобы кто-нибудь его заменил, и у нас будет время поговорить. До того я всю субботу ходил по Центральному парку, думая о том, как мне лучше преподнести папе свою новость. Но такое уж мое везение, что вечером разразилась гроза, и вместо того, чтобы медленно пойти с папой пешком и за это время все ему, не торопясь, объяснить, нам пришлось поехать на такси.
Читать дальше