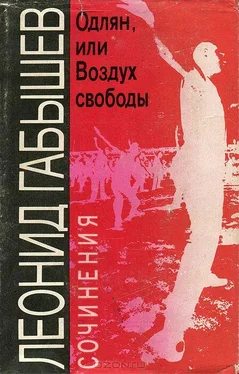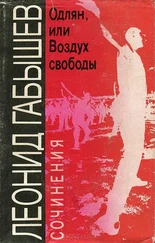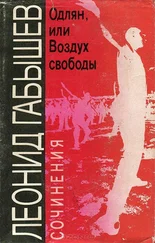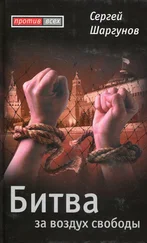Хочу, стремлюсь, но не могу понять себя, Боже. Уж если я, дурак, не пойму себя, то как же умные поймут друг друга? Помоги им, Господи.
Каждый день ломаю голову: для чего живу? Однажды так напрягся, что меня бросило в жар, в голове раздался женский визг, перешедший в вой, затем вселенское гортанное клекотанье, и я отключился.
Больше месяца был не в своем уме и, купаясь в ванне, почувствовал себя мужчиной. Вспомнил Вику, и кукурузина взметнулась к животу, выплеснув на пол воду.
Целую неделю ходил мимо дома Вики и наконец встретил.
— До безумия соскучился по тебе! — выкрикнул я.
— Молодец блаженный! Ступай домой. Сейчас приду.
И вот Вика снова в моей постели! Какая она великолепная!.
Уходя, сказала:
— Скоро приедет из отпуска моя подруга, Валерия, и мы будем встречаться у нее.
Все реже и реже прозреваю, и вести дневник не хочется. Сколько можно.
С Викой встречаюсь у Валерии. Ее квартира в центре Москвы превратилась, как и Татьянина, в штаб женщин. Они меня до сумасшествия любят. Боже, сделай так, чтоб больше не прозревал: надоел вселенский бардак. Когда не в своем уме, я — блаженный.
Альберту Николаевичу Янечко посвящаю
Леонид Габышев
Егор Иванович проснулся рано, но заснуть больше не смог. Он лежал с закрытыми глазами и вспоминал прошлое. Теперь он жил только прошлым, семьдесят пять скоро стукнет, и с настоящим одно связывает — жизнь. В воскресенье он посмотрел кинофильм «Покаяние», и так на душе мерзко стало, так мерзко, что всю неделю не находил места.
Он зарывал голову в подушку и кутался в одеяло, но гнетущей душе не было легче. Закутанному было жарко, и он или руку, или ногу выпрастывал, и прохладный воздух лизал тело.
«Как мы воспитываем молодежь? — думал он. — А как она вела себя в кинотеатре на «Покаянии»! В зале была едва десятая часть, и многие вышли, не досидев до конца даже первой серии. У меня текли слезы, а молодежь гоготала. Ничего-то не знает наша молодежь о годах репрессий. Но она в этом не виновата: ее воспитали такой. В книгах об этом написано мало, в школах не рассказывают. А можно ли воспитывать детей на умалчивании? В Японии молодежь даже не знает, кто бросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки — американцы или русские. А в Америке молодежь не знает, кто начал вторую мировую войну, немцы или русские. Зачем замалчивать историю? Надо так и писать, как было. А если будут замалчивать, молодежь наша над этим еще загогочет…»
После «Покаяния» ему чуть ли не каждую ночь снилась кровь, а в сегодняшнюю он не только увидел, но проснулся от ее запаха, содрогнувшись. Вспомнил об этом — по телу пробежали мурашки, и он на несколько секунд перестал думать, согнул в коленях ноги и сжался. «Как же я могу облегчить душу?» Он готов был заплакать, может полегчает, но слезы не шли. «Что сделать, чтоб не болела душа?» Он сильно зажмурил глаза и так лежал, пока не пошли оранжевые круги. Глаза устали, он открыл их и ничего не увидел. Вот зрение вернулось, но стало давить в ушах — он как бы оглох. «Оглохнуть, ослепнуть — ерунда, как оглушить и ослепить душу? — и заворочался с боку на бок, но положения, при котором бы стало легче, не нашел, и лег ничком, обхватив голову. — За все приходится расплачиваться. Какой-то рок преследует меня: потерял сыновей, жену, остался одинок. Скорее бы — смерть. Да и после смерти буду наказан: умру и буду гнить, и никто не придет, пока не завоняю».
Хоть и не хотелось вставать Егору Ивановичу, встал, надел халат и спустился к почтовым ящикам — «Правда» и «Литературная Газета» ждали его. С газетами, теперь в халате, лег на диван и стал их просматривать. Найдя в «Правде» статью о перестройке, с жадностью прочитал. Чем больше писали и говорили о перестройке, тем больше думал о ней он: как-то будет дальше? Коснется ли она каждого на деле, а не на словах? Среди знакомых, соседей он не замечал веяния перестройки: как сосед из двадцатой квартиры пил, так и продолжал пить. Как Машка, что жила через стенку, водила к себе хахалей, так и водит. В задумчивости сложил губы трубочкой и увидел собственные усы, и медленно, очень медленно выпустил воздух и вздохнул. Закололо сердце. Положив руку на грудь — закрыл глаза. Сердце болело давно. В последнее время — особенно. Мотор сдавал.
Сердце успокоилось, и он подумал: «Можно ли перестроить Раева из двадцатой квартиры, если ему идет шестой десяток, и в жизни его ничего не интересует, кроме водки. Так и будет пить, пока не помрет. А как перестроить Машку, если она без мужчин жить не может, с тремя мужьями разошлась, четвертого принимать не хочет, и удовлетворяет свою плоть, пока льнут к ней мужчины. Ведь третий год нигде не работает. Перестройка перестройкой, а вот как таких людей перестроишь? И таких — много».
Читать дальше