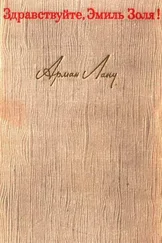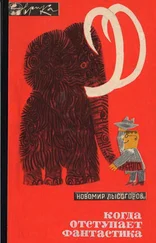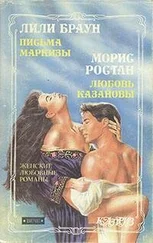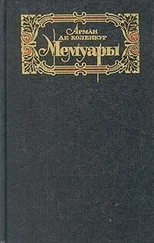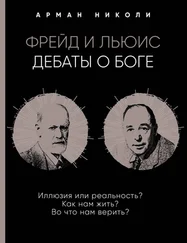— Ого! Браво, браво, канайец! Ты очень неглуп, канайец! Ты умнее многих.
На сей раз пересолила Беранжера. Она продолжала скороговоркой:
— Если ты хочешь понять мою Нормандию, Абель, никогда не забывай, что тут под каждым городом, под каждым поселком, под каждой деревней погребенная деревня, погребенный поселок, погребенный город, погребенный вместе с собаками, когда-то лаявшими на луну, вместе с красивыми котами, воровавшими цыплят, вместе с детьми, таращившими глазенки, вместе с ослепшими бабушками. Под Каном есть еще один Кан, есть Вогё, где когда-то было полным-полно уличных девок, где содержатели публичных домов находились в стачке с полицией…
— Мне… мне хочется еще раз увидеть Кан — вместе с тобой, Малютка.
— Хорошо, Абель. Но Кана ты больше не увидишь. Я тебе скажу: «Видишь? Вон там было то-то. Видишь?»
— Вижу.
— Ничего ты не увидишь. Сохранились только названия. Жила-была маленькая девочка… «Беранжера! Беранжера! Где ты?.. Мальвина! Вы не видали Беранжеру?» — «Наверно, где-нибудь носится… У нее шило в одном месте, у вашей Беранжеры…» — «Да, да. Вот я ее этим шилом… Беранжера, противная девчонка! Наконец-то! Где ты была?» — «В мужском монастыре, мама». Вот тебе история Беранжеры. Жила-была маленькая девочка, ее мать, Лоранса, слепила себе глаза… Шила на дому… Чтобы дать Беранжере образование. Среднее образование. Как у всех ее заказчиц!
— То есть?
— Заказчицы были дочки видных чиновников, и у всех у них было среднее образование! А ты этого не знал, канайец?
— Не знал.
— Бедный канайец! Хоть в тебе и девяносто кило…
— Девяносто два!
— … хоть твоя грудь целую гору выдержит, и, несмотря на весь твой опыт — опыт простодушного убийцы, ты всю жизнь будешь ребенком! А нам, Абель, нам сто тысяч лет… Земля наша полна мертвых городов. По ним ходят, над ними танцуют, надрываются на работе, целуются. Вот почему правил гигиены тут не соблюдают! Без всякого целлофана! Теперь ты понимаешь, что я склеенная кукла, которая говорит «мама», когда ее кладут? Помнишь у Брассана?
Душа его дрогнула от тихой жалобной песни, которую она напевала в полудремоте, лежа под корявыми яблонями воображаемого сада ее далекого детства, и он притянул ее к себе. Его пальцы, грудь, глаза, его гладкая голова, блестевшая при электрическом свете, излучали нежность. Он медленно проводил рукой по шраму, вдоль лощин, скатов и пригорков ее спины… По временам раздавался дребезжащий звон колокола, колокольчика, хотя никто его не раскачивал. А внизу был хаос подвалов, колодцев, полузасыпанных коридоров, обвалившихся зданий — город освобожденных мертвецов.
Он распахнул балконное окно, изогнутое, как лебединая шея. Открылся вид на море. Под окном пожилая женщина кормила кур. Должно быть, одна из тетушек. На небе ни облачка. Юный день веял чистой прохладой.
— Ты меня заморозишь!
— Холод бодрит!
— Злодей, изверг, деспот, зверь! Канайец!
Он остановил взгляд на часах, которые вчера возбудили его любопытство искусственной струйкой. Да нет! Не вчера! Позавчера! Вчера они с Беранжерой ходили купаться, только и всего. День был безмятежный, насыщенный, полный до краев. Среди скал они праздновали годовщину — свои первые сутки — и объедались паштетом, помидорами и золотистым камамбером, который они запивали красным вином «Ножка пастушки». Время, время… При утреннем свете это были обыкновенные мещанские часы: две нимфы опирались на колонны и поддерживали треугольный фронтон храма. Над ними разлегся аллегорический бородач; косу он положил рядом с собой. Внизу в выложенном ракушками фонтане изогнутая стеклянная трубочка изображала струйку; от беспрерывно вздувавшихся внутри нее пузырьков создавалось впечатление, что там в самом деле течет вода. Томно ворковали горлинки.
Абель прыгнул на кровать, и она чуть было под ним не провалилась. Зеленые и красные листья по бокам расшитого полога пообтрепались. Верх провисал. Грудь Беранжеры ощутила уже знакомое ей прикосновение предмета, висевшего у Абеля на шее. Была еще та золотая пора в их любви, когда оба располагали баснословными счетами в банке неведомого.
— Короче говоря, мы оба были в Кане.
— Да.
— В августе?
— Да.
— Сколько тебе тогда было?
— Девятнадцать.
— Уже можно было крутить любовь.
— Шрам — от тех времен?
— Нет.
Она засмеялась.
— Пришлось мне хлебнуть горя. Потому-то я такая веселая!
Абель притянул Беранжеру к себе и зажал ее ноги между своими мощными бедрами. «Мое ты маленькое счастье», — шептал он. Он любил эту песенку Феликса Леклерка. (Еще один Леклерк!) Она промолчала.
Читать дальше