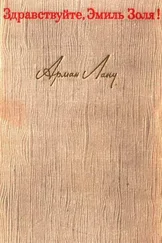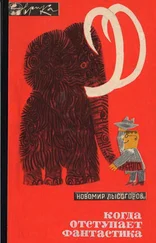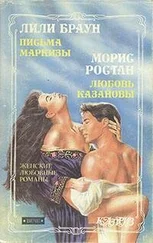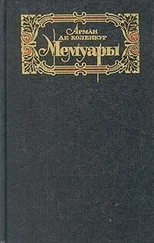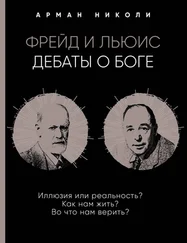— Допотопное приспособление! — заметил он.
Последовало молчание, долгое, умиротворяющее, на фоне которого особенно отчетливо выделялись завывания ветра и оглушительный грохот накатывавших волн.
В нем все еще были живы далекие отголоски наслаждения, острого, как боль.
Он медленно выплывал на поверхность.
«Беранжера — это колдовская трава с нормандских огородов, летний безвременник, от которого глаза становятся синими, трава, вызывающая у тех, кто ею злоупотребляет, расстройство зрения и слуха, похожее на то, какое бывает от мексиканского пейотля».
Клетка со спящими голубками, монументальные мраморные часы, увенчанные прелестными фигурками во вкусе Возрождения, — часы, из которых непрерывно струился символ бесконечности — источник, в золоченых рамах картины, изображавшие сердобольных римлянок, Бабар, окно, в которое смотрели звезды, — все это неудержимо клонилось влево. И Абель тоже клонился, клонился, клонился. Он попытался восстановить равновесие, но комната кренилась все в том же направлении. И вот что странно: мебель и безделушки не делали полного круга — они клонились в одну сторону и так и не становились на место! Он приложил руку к сердцу. Что это, смерть? Да, наверно, смерть приходит именно так. Еще шаг — и я окажусь по ту сторону. Превращусь в отражение. Останусь навсегда в неком изнаночном мире. Поскользнешься. Ошибешься этажом. И уже там. Здравствуй, Жак!
Так вот она, слева, бездна Паскаля!
— Малютка! Ты всегда в духе.
— С самой войны. Если б ты знал, что здесь было!
— Я же был здесь.
— Нет.
— То есть как «нет»?
— Ты был впереди. Или сбоку. Или с другого боку. Понимаешь?
— Нет.
— Ты когда-нибудь видел испуганную мышь? Глазки как булавочные головки, мордочка дрожит, ушки на макушке. Точь-в-точь такими мы были тогда. В день высадки я была в Соборе святого Стефана. Я и другие дети играли в прятки: мы прятались за колоннами, а колонны дрожали от взрывов, и мать дала мне шлепка. А потом я спустилась в подвал.
По ее телу пробежала дрожь.
— Тебе холодно?
— Мне всегда бывает холодно во время прилива.
— Во время прилива воскресают воспоминания.
В зрачках Беранжеры вспыхнул огонек удивления.
Он накинул простыню на перламутровое ее тело. Под этим белым полотном они еще живее почувствовали, что здесь их только двое.
— Ну расскажи, расскажи!
— Да нечего рассказывать. Бомбежка продолжалась. Все стало черным. Матери со мной уже не было. Я услышала плач сестры. А потом к нам, точно в цистерну, хлынула вода. Целый водопад. Я не умерла. Я даже не была ранена, мне не было больно, но вода грозила нас затопить. Мне никогда еще не было так страшно. Я стала звать сестру. Я звала ее сто раз. Потом я уже звала ее в забытьи. Я порывалась встать — и не могла. Проснулась я двенадцатого июня. Да, двенадцатого. Сестру мою так и не нашли, не нашли еще шестнадцать девочек, которые были с нами. Ничего не нашли, даже улицу! Сеновальную улицу. Старые почтальоны до сих пор ее, верно, разыскивают.
Он дал ей прикурить. Она курила сигарету «Old Gold».
— Gold. «Золотые». Один из высадочных пляжей назывался Золотой.
— Беранжера, ты прелесть! Но ты ошибаешься, полагая, что солдаты — по ту сторону. Кстати, зачем ты мне об этом говоришь?
— Потому что ты постоянно об этом думаешь! А что ты делаешь, когда ты не думаешь?
— Я диктор на радио в Квебеке. Бросаю слова на ветер. И в то же время не говорю ни о чем. Ни о чем. Бывают дни, когда мне хочется говорить о боге, о войне, о смерти. О Воротах Войны. И о вышках молчания тоже… Это особые трансформаторы, которые устанавливаются около военных учреждений. Квадратные, приземистые, смертельно грустные… Ты их видала? Мне хочется говорить о прощении, девочка. О пречистой деве. О Марксе. Да мало ли еще о чем! В моей груди заперто четырнадцатилетнее молчание, а сверху на нее давит тот вздор, который я четырнадцать лет мелю по радио…
Она играла с волосками на его груди.
— Мягкие.
Она поднесла к ним красный огонек сигареты. Волоски затрещали.
— Пахнет войной. Ты говоришь, четырнадцать лет? Мне было четырнадцать лет в сорок четвертом. Не стоит считать, милый. Теперь мне ровно тридцать. Моя мать лежит здесь, под Вервиллем. Здесь есть город под городом. Город засыпанных. Чтобы они не вышли, замуровывают коридоры, подвалы, засыпают колодцы. Здесь никогда не копают. Построили над. Построили живой город над мертвым. Моя мать, Лоранса, там, внизу.
— Построили на возмещенные убытки?
Читать дальше