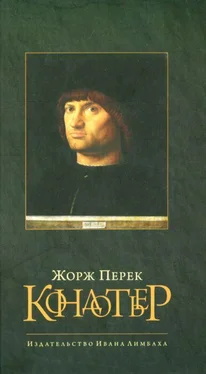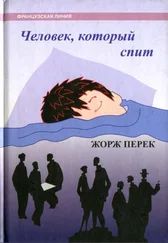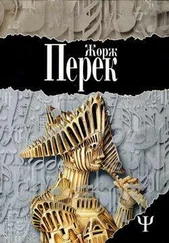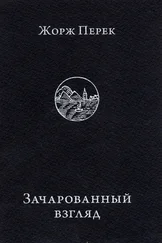Здесь все останавливается и возобновляется. Какое простое движение. Через два-три часа расшатанные блоки выпадут из стены, рухнут на козлы, свалятся на цементный пол. Перед тобой останется лишь слой затвердевшей земли. Через четыре часа. Внезапно твое будущее вырисовалось во времени и в пространстве…
Сопротивление. Странное противление мира и тебя самого. Как когда-то в Альтенберге. Замерзшая корка свежевыпавшего снега. Наст. Он шел по пустому склону с лыжами на плече; казалось, снег мог его выдержать, сопротивлялся, но потом внезапно проседал, и он проваливался чуть ли не по пояс. Ему не оставалось ничего другого, как надеть лыжи и очень быстро съехать. Он скользил, летел, едва касаясь земли, ему удалось не потеряться и не пропасть. Странное воспоминание. А ведь столько лет он только и делал, что едва касался, наметывал, намечал, не так ли? Сопротивление, видимость сопротивления. Дальше этого он никогда не заходил. Ни с Руфусом, ни с Женевьевой, ни с Жеромом. Ни с кем. Даже с самим собой. Действительно ли они жили? Или лишь существовали: безымянные, без корней, без привязанностей? Он словно пребывал в блуждающем мире. Мире призраков. Однако иногда, на вечерних коктейлях — с внезапным ужасом, будто вдруг представал пред судом, безжалостно оголенный, препарированный и приколотый к стенке — он ощущал, как на него выплескиваются окружающие, воспринимал это мгновенно, интуитивно, спонтанно и однозначно. На него внезапно низвергалось их бытие. Вероятно, в такие минуты корка, искусственно укрепленная снежная гладь трещала, проламывалась — под каким весом? — неожиданно рушилась, заваливала и увлекала его в пропасть… Как далеко отсюда был хорошо защищенный замкнутый мирок, который он выстраивал, эта цитадель из стюка и искусственного мрамора, строго охраняемая империя эрзаца, область тщетной алхимии.
Под его рукой могли оживать Вермеер и Пизанелло, а еще греческий ремесленник, римский ювелир, кельтский медник, киргизский золотых и серебряных дел мастер. И что дальше? Ему аплодировали, его содержали, ему платили, его поздравляли, чествовали. А дальше? Что оставалось? Что он сделал? То, что вы сделали в Сплите…
В нижней части города, в подвале рождались сокровища: глиняные кувшины, амфоры, горшки до краев наполнялись драгоценными украшениями и монетами, сестерциями и серебряными денье, браслетами, фибулами, камеями, огромными серебряными брошами.
Сваленные в кучу, зарытые в землю, все эти причудливые находки могли бы прекрасно охарактеризовать состоятельного вельможу эпохи упадка Империи. Высокопоставленный чиновник — все еще римлянин, но уже и немного варвар, хотя бы из-за смешанного окружения, — он прозябает в далекой провинции и однажды, после одного из многократных нашествий, уходит скитаться по Сирии, Иллирии, цизальпинской Галлии или же на восток, против течения, по Македонии, Карпатам; покидая дворец, оставляя прислугу и утварь, он прячет в подвале — сохраняя тем самым постоянную надежду на возвращение — уйму золота, серебра, камней, эти явные признаки векового превосходства…
А дальше? Осознавал ли он, что всякий раз выискивал свой собственный образ? Понял ли, что выпытывал, вырывал у веков, проецировал на четырех черных и влажных стенах подвала в Сплите свой лик, свое отношение, свою неопределенность? Внутри сокрыто сокровище. Год терпеливых поисков, долгие месяцы труда в полном одиночестве. В сотне метров от самого синего моря, со своей крохотной кузницей, золотой и серебряной фольгой, россыпью камней, деревянными и медными киянками, в грубом кожаном переднике он работал так, как до него наверняка работал какой-нибудь раб-ремесленник, некогда трансильванский скотник или греческий пастух. Он бежал из латвийской или каппадокийской глуши, спасаясь от холода, голода и волчьих стай; терялся в потоке растянувшихся на километры толп; его влекли обетованный Эдем, царящий над миром и бескрайними просторами Mare Nostrum [42] Mare Nostrum — дословно: наше море (лат.) ; название Средиземного моря у древних римлян; римские территории Средиземноморья.
огромный ковчег Империи, которая со всех сторон уже крошилась, разрушалась, неизбежно обгоняемая логикой собственного развития. И он — невольно втянутый в авантюрную историю вчерашний скотник, пастух, а сегодня вдруг всадник, пехотинец, пленный, раб — выражал в железе, бронзе, золоте — помимо уязвленной гордости и горечи утраты былой свободы — тайную ностальгию по обетованному покою.
Читать дальше