В этом доме (как вскоре удостоверился Дон Жуан) не было даже служанки, ибо Кинтеро не мог больше выносить вида женщин и обходился одним слугой-мужчиной. Этот слуга высушил одежду гостя, и он же внес часа через полтора скверно приготовленный обед, который топтался в желудке, как пассажиры, ждущие на холоде почтовую карету. Таким способом Кинтеро подвергал себя, помимо душевных, еще и телесным мукам. Ощутив в животе знакомые колики, он сразу же завел речь о покойной жене. Вдобавок ко всему горе сделало из него актера: он говорил о своей возлюбленной, а глаза его мерцали тусклыми отсветами рампы. Кинтеро рассказывал, как ухаживал за нею, живописал в подробностях ее красоту и свойства ее темперамента, делился воспоминаниями о том, как прямо из-под венца умчал ее на супружеское ложе — точно вез по людным улицам лоток с брильянтами, спеша укрыть его под сводами банковской кладовой. В присутствии Дон Жуана всякий мужчина, излагающий историю своей любви, делался художником — ведь хотелось, чтобы изумился и позавидовал сам великий соблазнитель, — и Кинтеро, не удержавшись от широкого жеста, под занавес сообщил, что его жена умерла в первую же брачную ночь.
— Вот это да! — воскликнул Дон Жуан. И тут же пустился рассказывать случаи из собственной жизни. Но Кинтеро почти не слушал: он снова впал в тоскливое изнеможение, такое естественное для переживших горе. Под звуки речей собеседника он одержимо думал свое, словно актер, повторяющий перед выходом роль. К нему вернулась мысль, мелькнувшая у него в первые минуты встречи с Дон Жуаном: каким же надо быть чудовищем, чтобы при твоем появлении другой радовался смерти любимой жены! Слушая вполуха и страдая от колик, Кинтеро ощущал в себе одном всю ненависть севильских мужей к этому дьявольскому человеку. И чем живее он ее ощущал, тем больше утверждался в мысли, что не зря, наверно, не просто так оказалась у него в руках возможность мести.
Он решился. Когда вино было выпито, Кинтеро кликнул слугу и распорядился перевести Дон Жуана в другую комнату.
— Посещение его сиятельства для меня большая честь, — чопорно объявил он. — И я не могу допустить, чтобы тот, кто проводил ночи в ароматнейших будуарах Испании, ночевал у меня в комнате, где воняет козлом.
— В запертую комнату? — изумленно переспросил слуга, услышав, что заезжему гостю отводится парадная спальня, где стояло династическое брачное ложе и где сам хозяин после смерти жены спал всего несколько раз.
Но именно в эту спальню проводил Кинтеро почетного гостя и поклонился ему у порога с таким недобрым блеском в глазах, что Дон Жуан, чувствительный к подобного рода вещам, прекрасно понял: впустили кота в клетку только потому, что птичка давно упорхнула. Это было ему неприятно и оскорбительно. Ночь простиралась впереди, как мертвая пустыня.
А что за ложе! До чего широкое и такое немыслимо пустое! Надо же было нарваться на эдакую пакость. Он разделся, задул лампу. И улегся, ясно представляя себе, как справа и слева от него тянутся простынные просторы, где нет ничего живого, кроме клопов. Пустота. Стоит самую малость подвинуть руку, чуть-чуть согнуть в колене ногу, и вторгаешься в стылое царство смерти. Миля за милей могут исследовать, ощупывать ладони, ступни, колени неприветливую снежную Антарктику в напрасных поисках жизни. А замереть и не двигаться — все равно что заживо испытать оцепенение могилы. И со сном опять же незадача: выпитое вино, правда, навело зевоту, но ужасная пища кувыркалась в брюхе и, только задремлешь, ударом под дых опять заставляла очнуться.
Спать одному в двуспальной кровати — это особое искусство, но Дон Жуану оно было неведомо. А делото проще простого: не спится на одном краю кровати — перевались на другой, авось повезет. Дон Жуану, чтобы додуматься до этого, понадобилось добрых два часа. С затуманенной, тяжелой, бессонной головой он двинулся в пустыню, застоявшийся ночной воздух ледовито заколыхался под одеялом. Дон Жуана пробрала дрожь. Осторожно вытянув руку, он дополз до второй подушки. О, как безжизненны и более чем девственно холодны были простыни! Он опустил голову на подушку, поджал колени и так лежал и дрожал. Немного терпения, и он, конечно, согреется, но пока холод страшный. Просто невероятно. Словно лежишь не в постели, а в леднике. Прямо на льду. Уж не заболел ли он? Вымок под дождем, простыл, вот зуб на зуб и не попадает и ноги дрожат в коленках.
Что-то не видно, чтобы он согревался, наоборот, становится все холоднее. Ледяное дыхание касается лба и щек, лед обнимает тело, льнет к ногам. Он вдруг в суеверном страхе приподнялся, упершись ладонями, вгляделся в подушку, откинул одеяло, присмотрелся — пусто. Он дышал жарко, но в лицо ему веяло холодом студенее могильного; его плечи, все тело были в огне, но ледовитые объятия влекли его книзу; у него возникло страшное подозрение, и он уже готов был заорать, но в этот миг его губ коснулись две влажные льдинки, и он устремился навстречу поцелую — ибо это, несомненно, был поцелуй, — который леденил, как мороз.
Читать дальше
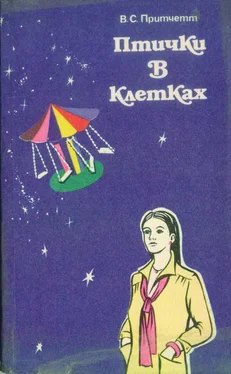

![Виктор Пелевин - Синий фонарь [сборник рассказов]](/books/35428/viktor-pelevin-sinij-fonar-sbornik-rasskazov-thumb.webp)








