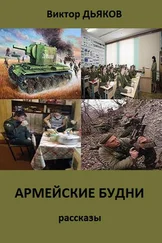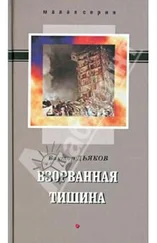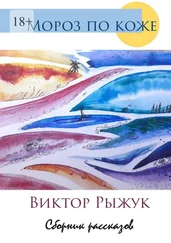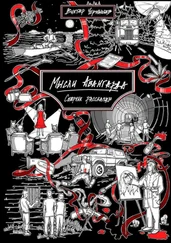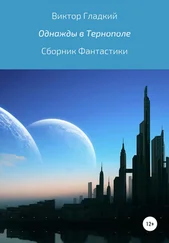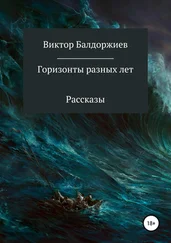Рассказам Притчетта непременно свойствен английский колорит, писатель тонко подмечает черты национального характера. Вероятно, его рассказам не хватает глубины социальных обобщений (в одном из своих последних интервью писатель признался, что ему не удалось воссоздать облик общества, в котором он живет: «это достоинство оказалось мне чуждо»), зато в них очень много точных психологических наблюдений, емко и выразительно воссозданы характеры и нравы.
Психологическая достоверность «вырастает» не из дотошного копания в глубинах психики персонажа, а из проницательно увиденных нюансов его поведения. Естественное, плавное движение от внешнего поведения к чертам характера, от лежащего на поверхности к внутреннему, глубинному — одна из основных характеристик психологизма Притчетта. С удивительной меткостью подмечает он, казалось бы, случайное, текучее, и вдруг понимаешь, что речь идет о вечных, основополагающих чертах внутреннего мира человека.
Психологическая меткость, достоверно переданная «внутренняя драма» в свою очередь содержит и многочисленные «выходы», прорывы к обобщениям социальных нравов. Среда и личность увязаны у Притчетта гибкой, органичной, неявной связью, «прямой комментарий», по мнению писателя, разрушает достоверность, объективность, т. е. в конечном итоге жизненную правду.
Особую окраску рассказанной писателем истории придает его специфический юмор — суховатый, ненавязчивый и очень точный. В критике недаром широко распространено выражение «знаменитая притчеттовская ирония» — что-то вроде визитной карточки этого прозаика (как говорят о «типично бейтсовском рассказе», «характерном герое Конрада» и т. д.). Хотя диапазон юмористической палитры писателя очень широк — от мягкой иронии до ядовитой сатиры, — не эти оттенки характерны для юмора Притчетта в первую очередь: его отличает парадоксальность, черты эксцентрического пародийного обыгрывания, порой — гротеск. Юмор писателя еще и тем своеобразен, что нередко граничит, почти сочетается с трагизмом. «Для меня комедия имеет острый привкус трагедии», — говорит писатель.
Наблюдательно подмеченная «комедия нравов» определяет очевидную склонность писателя к рассказу-анекдоту. В поэтике Притчетта есть что-то сродни отношению к рассказу А. Толстого, писавшего: «Сюжет — это… массовый анекдот, весь еще сырой и животрепещущий», «элемент неожиданности и составляет суть анекдота-сюжета». Аналогичной точки зрения придерживался и соотечественник Притчетта, такой мастер рассказа, как С. Моэм, считавший анекдот основой художественного вымысла. А вообще истоки своеобразной юмористической манеры Притчетта следует искать в английской традиции эксцентрическо-юмористической аранжировки характера, например у Диккенса.
Парадоксальность — характерная черта художественной манеры писателя. Эксцентричность и банальность, ирония и сочувствие, трагическое и комическое сосуществуют в его рассказах, тесно переплетаются, взаимовыявляя и дополняя друг друга. Так, ирония, пронизывающая авторское отношение ко многим персонажам, как правило, смягчена сочувствием, которое в свою очередь находится под контролем иронии, не позволяющей ему перейти в сентиментальность.
Парадоксальное сталкивание того, что человек представляет собой на самом деле, и того, чем он кажется, расхождение между сутью и видимостью в конечном итоге способствует выявлению внутренней сущности персонажа, воссозданной во всей ее сложной многогранности.
Сочетание высокого и низкого, смешного и печального усиливает художественное впечатление от рассказов Притчетта, их внутренний художественный смысл, именно парадоксальное видение человека становится причиной того, что для писателя нет неинтересных людей — сколь бы незначительными они ни казались на первый взгляд; нет незначительных ситуаций — на самом деле они значимы и раскрывают читателю сущность характера персонажа и авторского замысла.
Экономность детали и масштабность замысла — еще один парадокс в поэтике Притчетта. К примеру, в рассказе «Загулял» речь идет о старике, устроившем себе маленький праздник — он отправляется погулять по городу, заглянуть в любимые магазины, в знакомую парикмахерскую. Внешне события мелки и незначительны, но за ними — бунт, борьба за свое «я», сопротивление старости, самой смерти.
Как всегда у Притчетта, неоднозначен замысел рассказа «Долг чести». Переживания героини, обманутой мужем, никчемным человеком, к тому же обокравшим ее, серьезны — но до чего же комична фигура ее супруга, с его дурацкими высокопарными сентенциями, нелепой самовлюбленностью, до чего смешны его ухватки профессионального обольстителя. Парадоксальное столкновение столь разных психологических уровней, давая эмоциональную разрядку читателю, иллюстрирует и частую в новеллистике Притчетта тему «странностей любви».
Читать дальше
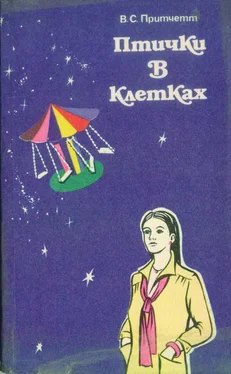

![Виктор Пелевин - Синий фонарь [сборник рассказов]](/books/35428/viktor-pelevin-sinij-fonar-sbornik-rasskazov-thumb.webp)