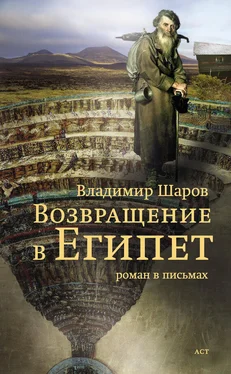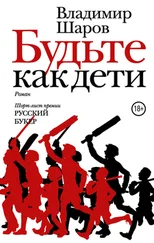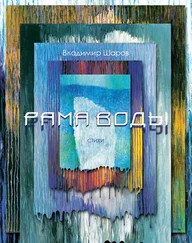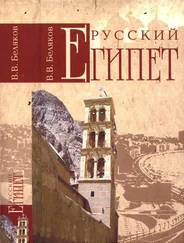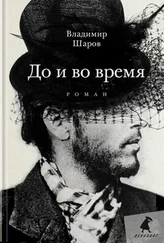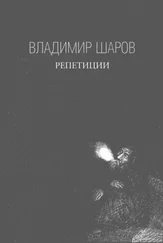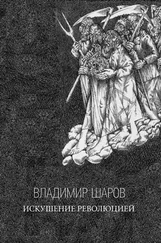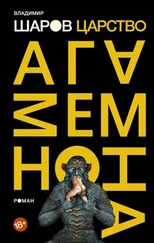Признав эту свою раннюю повесть пророческой, Гоголь со страшной непреклонностью уйдет из жизни точно так же, как Пульхерия Ивановна, и так же, словно по трафарету, прежняя Россия считаные годы, что ей остались, срисует с судьбы Афанасия Ивановича Товстогуба, похоронившего свою супругу. В повести о событиях, которые произойдут, прежде чем зарытые рядом у церковной ограды они снова сделаются вместе, сказано четко, без каких-либо экивоков и умолчаний. Оттого не грех повторить сказанное. По вполне понятным причинам, Коля, сделаем правку женского рода на мужской и наоборот, прочее же оставим как есть.
Гоголь (Пульхерия Ивановна) — нам: «Вы, однако ж, не горюйте за мною: я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары, мы скоро увидимся на том свете». Гоголь о нас: «Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любило вас то, которое будет ухаживать за вами». Закляв ее самыми страшными клятвами, какие есть в мире, Гоголь (Пульхерия Ивановна) поручает нас какой-то Явдохе, назначает ее присматривать за нами, когда его уже не будет на свете. Кто она, кого именно он имел в виду — единственное темное место пророчества. Дальше снова говорит о себе: Пульхерия Ивановна всё равно «не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни; она думала только о бедном своем спутнике (то есть о нас), с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным». И продолжает: «Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна, и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно чрез несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович (мы) весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. „Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?“ — говорил он, с беспокойством смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами — и дыхание ее улетело. …Множество народа всякого звания наполнило двор, множество гостей приехало на похороны… И земля уже покрыла и сровняла яму, — в это время он пробрался вперед… Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: „Так вот это вы уже и погребли ее! зачем?!“
Следом, опять возвращаясь к нам, — по истечении пяти лет после смерти Пульхерии Ивановны дом выглядел уже вдвое старее, крестьянские избы легли совсем набок… Навстречу вышел старик. Дальше снова о нас и о том, как мы его, Гоголя, оплакали: „Это были слезы, которые текли не спрашиваясь, сами собой, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца. Он не долго после этого жил“. О непосредственных обстоятельствах, что предшествовали нашей смерти, и о ней самой: „Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: „Афанасий Иванович!“ …Он на минуту задумался, лицо его как-то оживилось, и он наконец, произнес: „Это Пульхерия Ивановна зовет меня!“ …Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество“.
Мы и дальше, когда уже на веки вечные перестали быть той Россией, какую Гоголь знал и любил, сделались для него совсем чужими, продолжали жить, каждый свой шаг сверяя с последними страницами „Старосветских помещиков“. Сначала предприимчивый приказчик вместе с войтом перетащили в свои избы „все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница“ — Явдоха, на которую Пульхерия Ивановна так легкомысленно оставила Афанасия Ивановича. Вскоре затем приехал какой-то дальний родственник — наследник имения — „страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах“, которые решился „…непременно искоренить, исправить и ввести во всём порядок“. Накупил шесть прекрасных англинских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку». И как финал: «Мудрая опека …перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею частию числиться в бегах».
Последнее, Коля, просто так, на заедку. По общему мнению, лучшие страницы (из тех, что уцелели) официальной второй части «Мертвых душ» — обед у Петуха. Он в самом деле монументален и с архитектурной точки зрения выполнен безукоризненно. Но разве можно его сравнить с теми нежными и полными любви трапезами, какими Пульхерия Ивановна чуть не каждый час потчует Афанасия Ивановича, со всеми ее пирожками и коржиками, с салом, чаркой водки и солеными рыжиками, даже с жиденьким узваром из сушеных груш.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу