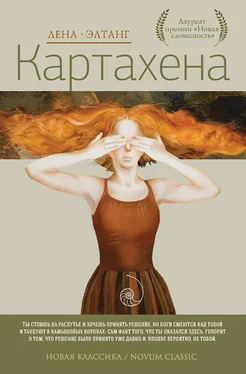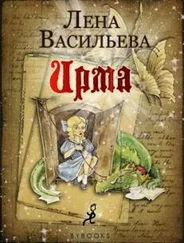Чтут ли на побережье эти древние праздники, спросил он ее, все эти квинквартры, луперкалии и тубилустрии? Осталось ли что-нибудь от этих шествий и плясок или о них можно прочесть лишь у Овидия? Ну хоть фералии-то остались?
Девушка хмурилась, она пришла к нему на полчаса, умаявшись в процедурной, разговаривать о сельских праздниках ей не хотелось. Она сидела на каталке, свесив ноги, и грызла крекеры, голубые туфли стояли на полу в первой балетной позиции. Фералии остались, сказала она нехотя, в конце февраля мы поминаем умерших, не думаю, что кто-то льет на могилы горячее масло или закалывает черных быков, но люди приносят угощение и зажигают свечи, это верно. Приношения манам, сказал он тогда, чтобы поразить ее своими знаниями, чечевица и яйца… и еще фиалки, кажется. Ты ходишь на чью-нибудь могилу? Все ли твои родственники живы?
– Какое вам до этого дело?
Она говорила ему вы, когда злилась, это он помнил. Но употребила ты в этом странном письме, которое спустя пару лет послала на деревню дедушке в надежде выплеснуть хоть малую долю злости и недоумения. Что ж, он понимал ее недоумение, как никто другой. Долгое время он жил в обнимку с таким же недоумением, только писать ему было некуда.
Разговор о фералиях был в начале апреля. После вечера, проведенного в темной прачечной, он больше не сказал ей ни слова. Он даже здоровался с ней издали, отводя глаза. Пепельная среда девяносто девятого года громоздилась между ними во всем своем холодном отчаянии. Черт возьми, он поступал так ради нее самой, просто из жалости. Ведь расскажи он всю правду, правда мгновенно воплотилась бы и стала частью ее памяти. Или частью того, что ей предстоит. То же самое происходит со временем. Люди договорились называть его прошедшим, но это всего лишь слово, потому что никто понятия не имеет, где находится точка отсчета.
Случись это теперь, он рассказал бы ей все, как на духу. Теперь он знал, что время – всего лишь уток, слабая переменная, зато основа грубой холщовой бесконечности – другие возможности, целые поля других возможностей, terreni a maggese. Мы просто движемся, оставляя за спиной некое количество использованного времени, эта ткань мгновенно грубеет, становится мертвой, будто подстреленная утка, нет, будто целая стая убитых возможностей, безрассудных селезней с зелеными головами.
Но что происходит с тобой, если в эту шершавую тряпку задним числом добавляется новая нить, о которой ты и знать не знал? Как тебе справляться со своим настоящим, если прошлое оказывается обманкой? Это случилось с ним самим, пока он сидел на гранитном полу лавандерии, глядя на Петру, только что признавшуюся в убийстве, и он до сих пор не знает, как сумел промолчать. Закашлялся, вытер рот рукавом и промолчал.
* * *
Ты стоишь на распутье и хочешь принять решение, но боги смеются над тобой и танцуют в камышовых коронах – сам факт того, что ты оказался здесь, говорит о том, что решение было принято уже давно и, вполне вероятно, не тобой. Маркус отложил блокнот, встал и подошел к окну. Здание почты белело в сумерках свежевыкрашенным фасадом, от него дорога сворачивала к гавани, морской ветер легко пробегал ее вдоль, и лавровые кусты шевелились от утреннего сквозняка.
Зачем я здесь? Когда я уговаривал итальянцев устроить чтения, на что я рассчитывал?
Не всерьез ведь я надеялся пробраться в участок и отыскать в архиве блог анонимуса с загадочным латинским ником, означающим всего-навсего ветер сирокко. С тех пор, как я начал эту книгу, меня все время преследует подозрение, что мои невозможности проступили по всему телу будто татуировки, и люди могут их видеть, качать головами и относиться ко мне с сомнением. Каждая собака видит, что я не могу сопротивляться грубому настоянию. Не умею торговаться. Панически боюсь наглости. Черта с два открою консервную банку камнем. Не могу ничего написать. Больше не могу!
Письмо Петры без малого три года пролежало под конторкой ноттингемского паба, и вместе с ним пролежали несколько обрывков чужого текста, слова незнакомца, вернувшие мне желание писать. Но пока что не вернувшие возможности. И не вернувшие ясности мыслей. Почему я до сих пор не добрался до «Бриатико»?
Наверное, повар все так же сидит на заднем дворе перед горой трески в корзине – из-под ножа летит и сверкает рыбья чешуя. Рыбу этот Секондо всегда чистил сам, не доверяя кухонным мальчикам. Да нет, какой там повар, отель давно закрыт, в нем если кто и живет теперь, так какой-нибудь сторож с собаками. Дождусь, когда рассветет и отправлюсь на холм. Ворота, разумеется, заперты, придется идти в обход, через дикий пляж, хотя веревочная лестница наверняка уже сгнила. Я помню, что ближе к берегу крутизна обрыва спадает, и можно спуститься вниз без лестницы, держась за выступы или редкие ухвостья можжевельника. Но вот подняться почти невозможно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу