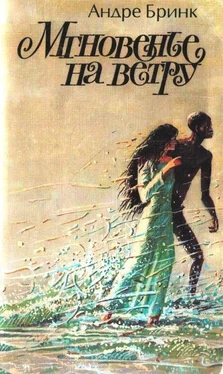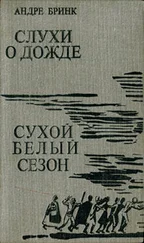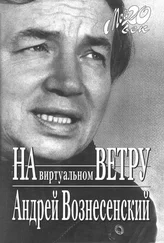— Обманщик, ты не спишь!
— Нет, сплю. Мне снится сон.
— Я принесла всяких фруктов. Ужасно хочу есть.
— А я хочу тебя.
— Так иди же ко мне.
…Вот как все могло быть. Наверное, так и было. Но ведь самое естественное и несомненное для нас труднее всего, думала она. Ходить обнаженной, хотя всю жизнь она не смела показать людям ногу выше ступни. Презреть запреты, которые окружали ее с колыбели, забыть все, чему ее учили, среди чего она жила, отбросить прошлое, точно изношенное тряпье.
Броситься в темноте в объятья мужчины, утолить нестерпимый голод своей плоти, дать своей страсти насытиться, — даже это было немыслимо раньше, когда она жила рядом с мужем в привычной, незамутненной обыденности. Отдавать все без остатка и брать, не ведая стыда и сомнений, легко, как срываешь с дерева спелый плод. Ощущать тело любимого не в тайных судорогах и спазмах, не ночью, в чисто прибранной спальне, не под крышей фургона, но в безгрешной наготе любви, каждый миг видеть его в ярком свете, чувствовать возле своего тела, знать, что оно никуда не исчезнет. Смотри, какая я белая. А ты почти черный. Черный, как раб. Но рабы живут, не задевая нашей жизни, как кошки или собаки. А ты теперь больше не раб, ты мужчина. Ты мой возлюбленный, мой муж. На твоей спине и боках отвратительные стигмы раба. Мои руки страшатся, не смеют к ним прикоснуться, я каждый раз закрываю глаза и стискиваю зубы. Лаская тебя, я словно касаюсь открытой раны. Неужто можно научиться любить даже шрамы? Вот я обвожу их один за другим кончиками пальцев, точно линии карты, — это ты, это огромная страна, и вся она принадлежит мне. Я содрогаюсь, из отвращения рождается страсть, а страсть рождает нежность, я растворяюсь в тебе.
Как же возможно такое чудо? Где, в каких тайниках нашей души сохраняются для него силы? И ей вспоминается: шелковица, она влезла на дерево и стоит среди веток, сочные, сладкие ягоды тают во рту, ее руки и ноги в пятнах тутового сока. Она думала, что она там одна, но он был тут же, внизу, наверное, он прокрался за нею тайком, она не видела его за листвой и не слыхала шагов в ее шуме. И вдруг почувствовала его руку на своем красном от тутового сока колене…
Сначала она стыдливо пыталась прикрыться, невольно отворачивалась, но Адам смеялся над ней, это он отобрал у нее зеленое платье и, смеясь над ее яростью и мольбами, спрятал в пещере. И постепенно она начала обретать свободу, уверенность, даже стала бравировать. Замирая от волнения и страха, точно ребенок, который делает что-то запретное, принялась она исследовать себя, его, ошеломляющий новый мир, в котором она очутилась. И все-таки она каждую минуту ожидала окрика: «Ты позабыла стыд, как ты смеешь?» Трудно было поверить, что с нее спали все запреты. «Наверное, я глупая и смешная, — думала она, — но прости меня. Будь со мной терпелив, я очень стараюсь. И я уже многому научилась, правда? Я больше не стыжусь, видишь? Обещай не терять терпения. Порой ты так необуздан. И так похож на ребенка, ты еще более застенчив, чем я, еще более неловок: как пленительна твоя неловкость. Я люблю тебя, иного объяснения у меня нет. Я люблю, люблю».
Мне кажется, мы живем здесь всю жизнь, от ветра нас защищает пещера, расположенная высоко над морем, стены внутри нее черные, закопченные — не вчерашним костром, а кострами, которые жгли здесь много веков назад, может быть, даже много тысячелетий. Кое-где из-под слоя копоти проглядывает краска — буро-коричневая, желтая, серо-белая, красная. И если приглядеться, то при свете горящей лучины можно различить забавных человечков с луками и стрелами, бизонов, страусов, слонов с поднятым хоботом, бегущих оленей. Это наш дом. Отсюда мы отправляемся в путешествие по влажным мшистым тропам, по мелкой гальке, не оставляя следов: мы идем в глубь невозможного. Если бы так было всегда…
Выйти на рассвете из пещеры, встать на широком краю утеса и, глядя на раскинувшийся вокруг мир — просторный и бледный, в звонком щебете просыпающихся птиц, в хриплых криках первых чаек, с дымкой над морем, но ясный, прозрачный, — и вдруг с изумлением понять: вот она, я, вот он, мир. И потом, наблюдая за медленным движением волн, почувствовать, как и сама я двигаюсь в этом мире, в этом пространстве, но мы не касаемся друг друга, каждый остается собой.
— Идем. — Он берет ее за руку.
Дрожа от ранней утренней свежести, они бегут по крутому склону, чтобы согреться. Внизу оглядываются: скалы горят в первых лучах солнца, будто светятся изнутри. Он ведет ее через валуны, возле которых кончается их пляж, потом вверх по ущелью, приведшему их когда-то сюда, к морю. В руках у него пистолет с длинным дулом и богатой резной рукояткой и мешочек с порохом, она несет силки, которые помогала ему мастерить, сидя с ним вечерами у костра. С тех пор, как утонуло их ружье, они почти не ели мяса, вот и пришлось сделать силки. А к зиме им понадобятся и шкуры.
Читать дальше