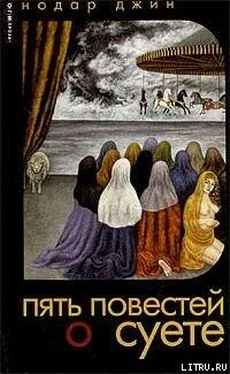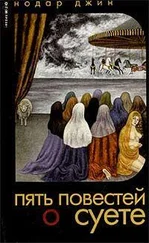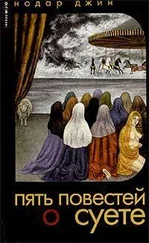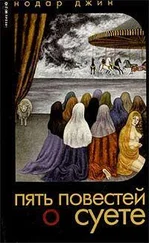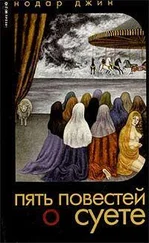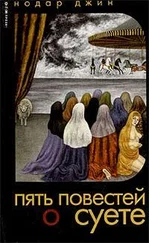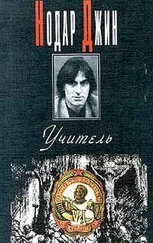Луна была круглая и лежала в дальнем конце пронзительно синей мари, но лететь до неё осталось мало. Две ладони на оконном стекле.
Ещё более странным, чем расстояние до вечера, представилась мне пустынность пространства по ту сторону стекла. Несмотря на отсутствие людей за окном, не было и неуютного чувства присутствия бога. Того самого чувства, которое возникало у меня в окружении неодушевлённого: снега, деревьев, темноты. Ко мне вернулось вдруг ощущение, которое до эмиграции я испытывал в вымерших кварталах родного города. Или которое возникало уже и в Нью-Йорке, если в воскресный день меня заносило в отдалённые закоулки делового даунтауна. В улицы притихшие и безлюдные, как после газовой атаки в фильме ужасов.
Это ощущение воспринималось мною всегда как предвестие печальной, но глубокой мудрости, схоронившейся за непроницаемой маской первозданной скуки и суеты. Просачивание в эту мудрость требовало способности, которой я не обладал — беспредельного терпения.
В прежние годы отсутствие терпения я объяснял своей неуёмностью, надеясь, что когда-нибудь она пойдёт на убыль — и времени у меня окажется потом больше. Позже, когда неуёмности поубавилось, меньше осталось и жизни.
Терпение относится к вещам, на которые я оказался не способен до определённого возраста по той смехотворной причине, что не способен на них и после достижения этого возраста.
К этому сроку, между тем, я установил, что изо всех вопросов глупейшим является вопрос о смысле вещей. Не потому, будто смысла ни в чём нет. Не потому даже, что глубокому ответу о смысле вещей противостоит не глупый, а более глубокий. А потому, что ответ не имеет значения. Есть в чём-либо смысл или нет — что это меняет?
Всё остаётся каким было — не имеющим ничего общего с человеком. Как не имеет с ним ничего общего этот державный мир за окном самолёта.
Мир, не знающий разницы между жизнью и небытием. Между главным и неглавным. Неодолимое царство скуки — самой верной приметы вселенской мудрости.
Потом мне подумалось о том, что страстью к неумиранию я обязан, наверно, неумению отличать главное от неглавного, ибо неглавному нету конца.
И что земная мудрость не может заключаться в пренебрежении неглавным — иначе бы страсть к существованию не уживалась с неизбывностью скуки.
И что люди стремятся к бессмертию не несмотря на скуку, а именно благодаря ей.
И что все на свете живут как раз из скуки. А что ещё делать при скуке, как не жить?
16. Человек рождается со сжатыми кулаками
В двадцать два года я умирал от сердечной болезни. Выжил благодаря дерзости, воспитанной во мне любовью моего деда. Петхаинского* раввина и каббалиста. Поразившись моей живучести, врачи, впрочем, не решились отпустить мне больше десяти лет. Все эти годы меня обуревала жажда быстрого успеха. У мудрецов, женщин, друзей и властей.
По истечении срока я, как выяснилось, добился всего, чего умел тогда хотеть. Если бы не вечный поединок с болезнью в форме пренебрежения к ней, если бы не разрушающая тяга к непостижимому и, наконец, неизживаемая драма моего происхождения, — я бы считал себя баловнём.
Моя преданность жене, наиболее совершенной из известных мне женщин, возбуждала их и превращала в одну из тех незащитимых целей, к которым я рвался по мере того, как сознавал в себе растущую потребность к бесконечному перевоплощению.
Моё полусерьёзное презрение к деньгам, дипломам, привилегиям и прочим символам благоденствия я выражал не в бегстве от них, но в самоуверенной погоне за ними. Я уподобился охотнику, который, набив сумку подстреленной дичью, продолжает стрелять, но теперь уже ленится проследить взглядом куда упала добыча.
Лицедейство превратилось в главную радость бытия.
Воплощаясь в кого-нибудь другого, я не только преодолевал всё, что меня во мне тяготило, но застигал мир вокруг себя с неожиданной стороны. И тем самым обеспечивал его податливость.
Жизнь обрела беспредельную ёмкость. Ничто не казалось недостижимым. Безалаберность по отношению к существованию обернулась свободой от него.
Я научился удлинять век умножением количества ролей, которые выбирал. И успокаивал себя тем, что цельность характера скрывает скудость фантазии или недостаток храбрости.
Почти тотчас же по истечении отпущенного врачами срока я решился на опрометчивый поступок. Сочинив наспех «философский текст» о том, будто жизнь подвержена энергии прогресса, то есть отдаления от прошлого к будущему, я выдвинул его на соискание высшей научной почести «доктор наук». Наиболее тщеславные из коллег решались на это в позднем возрасте, но я спешил, и в 33 года, самый молодой в истории страны, эту «почесть» заимел.
Читать дальше