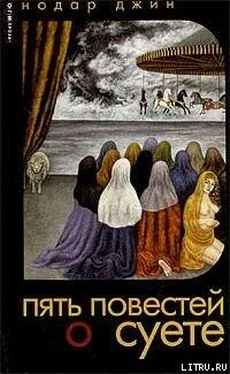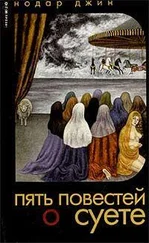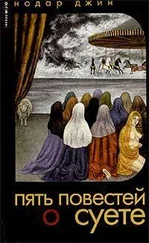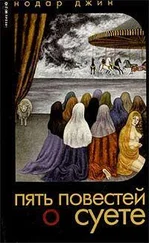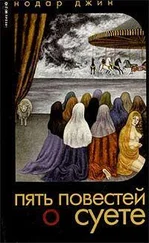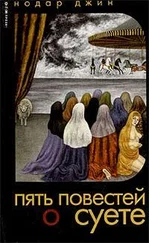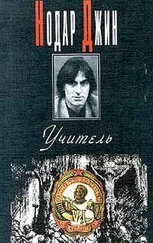Мэлвин Стоун лежал на диване у задней стенки запущенного Посольского салона и прислушивался к себе.
Джессика поглаживала ему лоб.
Бертинелли стоял навытяжку в изголовье дивана и — с позолоченной кокардой на фуражке — походил на зажжённую панихидную свечку.
Краснер — тоже с торжественным видом — стоял в изножье.
Было тихо, как в присутствии смерти. Возникло странное ощущение знакомства с неопознанным пока гнусным чувством, которое эта сцена разбередила во мне.
— Гена, — сказал я таким тоном, как если бы не начал, а продолжал с ним разговаривать. — Думаешь — это серьёзно? Только бы не умер! Это ужасно — в дороге!
— Если вытянет, скажи ему, чтоб больше не прыгал.
— «Если вытянет»? — испугался я.
— А если нет, говорить не надо: сам догадается.
— «Сам»?!
— Что это с тобой? Я говорю в твоём же стиле! Ладно, отойди в сторону. Тебе смотреть не надо… Отойди вот к окну… За этими коробками…
Я решил закончить с ним разговор:
— Габриела, а что в этих коробках?
— Это техника для нашего посольства… Американского.
Я протянул Краснеру флакон, и он шагнул к Стоуну, а Бертинелли, бросив на меня кислый взгляд, удалился вместе с Габриелой.
Я не знал куда себя деть. Вниз, в своё кресло, мне не хотелось. Было ощущение, будто случилось такое, после чего бытие — в его сиюминутном облике — не может не раздражать. Поначалу это чувство было смутным, но теперь уже, глядя со стороны на покрытого пледом и запуганного Стоуна, на пригнувшиеся над ним фигуры Джессики и Краснера в окружении картонных коробок и дребезжащих стен салона с ободранными обоями, посреди разбросанных на полу стаканов и журналов, — теперь уже было ясно, что мною овладевало то гнетущее ощущение неуютности существования, которое возникает когда вторжение призрака смерти кажется неуместным. Как во времени, так и в пространстве.
В голову мою вернулась мысль, которую я высказал Краснеру: было бы ужасно, если бы на борту самолёта образовался труп. Мертвец в пути — дурная вещь. Предвестие несдерживаемости всякого зла.
Память стала выталкивать наружу непохожие друг на друга сцены, повязанные меж собой чувством отчуждённости от жизни в присутствии её конца. Обычно подобные образы набухали, как мыльные пузыри на конце трубки, и, не отрываясь от неё, лопались — пока наконец один из этих пузырей не замыкал в себе моё дыхание и, качнувшись, взлетал вверх. Увлекая с собой меня.
В ожидании этих обескураживающих воспоминаний я поспешил к единственному незахламленному креслу.
Сперва попытался отвлечь себя посторонним: посмотрел в окно, но ничего не увидел — одну густеющую марь. Это есть ничего, сказал я себе и, не сдавшись отсутствию приманки, продолжил мысль. Говорят, что бог из этого и создал мир, — из ничего… А что дальше? Я сделал усилие задуматься над тем — что же дальше, но знакомое состояние отчуждённости от жизни не отступило.
А дальше, видимо, вот что: бог не истратил ещё всего, из чего сотворил мир. Высоко над землёй, за окном, ещё так много этого материала. Ничего.
А что потом?
На большее меня не хватило. Я откинулся на спинку кресла и затерялся в набежавших на меня пузырях…
15. Не знающий разницы между жизнью и небытием
Как и следовало ожидать, сперва вспомнилось недавнее — похороны красавицы Нателы Элигуловой. Самой знаменитой из грузинских женщин в Нью-Йорке. Первые похороны в нашем нью-йоркском Землячестве.
Воспоминания эти разворачивались необычно. Как знакомый сон. Или — как подсмотренные кем-то посторонним сцены из моей собственной жизни. Хотя из-за этого моя же жизнь казалась мне теперь неузнаваемой, я по-прежнему чуял в ней что-то родное.
Когда эти сцены с похоронами наконец закончились, — растворились краски и улеглись звуки, — тогда возникло ощущение, будто меня приобщили к какой-то очень странной истории, которая, оказывается, уже давно существует, но только сейчас отделилась от всего остального в этом мире и получила имя: «Повесть о смерти и суете»…
Непонятным чувством наполнило меня и возвращение из прошлого.
Снизу, из-под позолоченных облаков, по-прежнему пробивалось по-утреннему белое солнце, но впереди, наискосок от окна, собиралось другое время, ещё не наступившее: оранжево-розовая луна. Её зыбкий пузырь напомнил мне детство, пронизанное тайной предрассветного крика дворовых петухов, которые, как я случайно выяснил гораздо позже, кричали всегда в ту сторону пространства, где воздух был новый.
Читать дальше