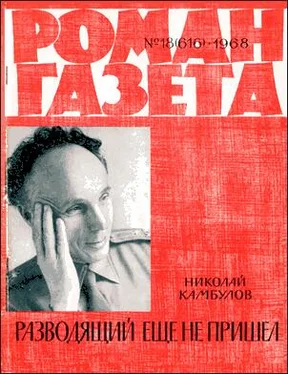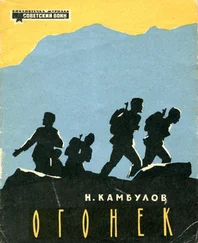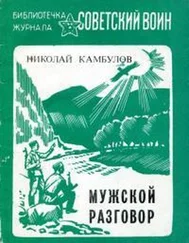— Успокойся. — Он робко положил свою тяжелую руку на ее голову. — Успокойся, мы все решим, как надо... Решим.
— Кто это «мы»? — прошептала она.
— Я и ты.
— А он? — Она отшатнулась от него, ожидая ответа. Бородин молчал. Ему трудно было что-либо сказать: он наконец понял, что Громов — это все-таки Громов, ее муж, а он — всего лишь влюбленный в нее майор. Просто майор.
— Хорошо, я попытаюсь сделать все, чтобы он вернулся к тебе, — сказал Бородин.
— Нет, нет, не то, не то! — испуганно возразила она. — Ты меня обидишь... Пусть будет так, как было...
— Так нельзя. К какому-то берегу ты должна пристать. Нельзя все время посередине реки плыть, устанешь.
— Верно, я очень устала. Но ты не говори ему... Я еще могу плыть...
— А цель, ради чего плыть?.. Пойдем, ты уже совсем озябла. — Он взял ее под руку бережно и робко. Наташа прижалась плечом, чувствуя исходящее от него тепло.
Вышли на дорогу. Здесь им нужно было идти в разные стороны. Бородин предложил проводить домой, как он ее раньше провожал, туда, к окнам, возле которых на столбе светилась лампочка. Вместо ответа она подала руку:
— Доброй вам ночи. — И заспешила к дому Водолазова.
Ее уже не было видно, а Бородин все стоял и стоял...
II
Ефрейтор Околицын и Цыганок охраняли заготовленный для строительства дома лес. Их шалаш стоял у самого обрыва. За рекой виднелись постройки колхозной молочной фермы. Оттуда доносилось мычание коров, протяжное и тоскливое. В лучах закатного солнца белели штабеля отесанных бревен, напоминая Цыганку одесские меловые разработки.
Околицын, закрыв глаза, лежал на хвое и молчал, а Цыганок не любил безмолвия. «Солдатское ли это дело — бревна стругать! — злился Цыганок. — Это работа для Пашки, она ему в самый раз... Целый месяц уже в госпитале. Эх, Пашенька, не в ту сторону привел тебя Христос. Дезертирство, Пашенька, молись не молись — накажут, темнота глубинная». Цыганку вдруг стало жалко Волошина, и тоска еще сильнее сжала грудь. Он сорвал травинку, пододвинулся к Околицыну, провел ею по верхней губе ефрейтора. Тот дернул головой и, открыв глаза, начал чихать.
— Не сидится, что ли? — набросился Околицын на Цыганка.
— Помру я тут, в лесу, Саня. Язык мой совсем заржавел, на душе муторно. Покритиковал бы, что ли, меня как агитатор. Давай, как тогда на собрании: «Цыганок — «сачок», хотел доктора обмануть». Хлестал ты меня немилосердно.
— Обиделся?
— Да уж сейчас и не помню. Критика, брат, она такая штука, в горле не засладит, не конфетка. Точно говорю... Видел я лейтенанта Узлова, когда он возвратился с заседания бюро. Я тогда дневальным был по казарме. Вбегает Узлов и тычется в закрытую дверь умывальной, как помешанный. Я ему открыл. Он бросился под кран и ну хлестать воду. Пьет, пьет... Я испугался: горло простудит. Потом повернулся ко мне, спрашивает: «Откуда ты, товарищ, взялся?!» Понимаешь, товарищ! Я — товарищ. А раньше-то, до этого: замковый Цыганок и — не больше. Глаза у него мутные-мутные, будто только что сняли лейтенанта с чертова колеса. Не узнает. Говорю: «Товарищ лейтенант, я — Цыганок, дневальный по казарме». — «А-а, говорит, товарищ Цыганок. Очень рад, очень рад вас видеть. Ты, говорит, товарищ Цыганок, знаешь, что такое критика?» — «Малость представляю», — отвечаю. Махнул он на меня рукой, дескать, ничего ты не понимаешь, и ушел, шмурыгая по полу подошвами, словно контуженный... Вот, Саня, какое дело-то, а ты мне: обиделся! Неприятная эта штука, критика, кто же на нее не реагирует?! Разве один бог. Ему что, он символ, так сказать, миф древности. — Цыганок был готов переменить тему разговора, но Околицын, укрываясь шинелью, улыбнулся:
— Спать надо, завтра будем грузить лес. Если не спится, пойди посмотри штабеля.
— Кто эти бревна возьмет!..
— Не в этом дело, для порядка.
— Понимаю... Плохо, когда не с кем поговорить. — Он поднялся и вышел из шалаша.
Темнело... Когда Цыганок возвращался с обхода, он уже с трудом различал предметы: все слилось в единое, темное, пахнущее сыростью и хвоей. Цыганок сел на пень, повесил автомат на грудь, вслушиваясь в какие-то неясные, глухие звуки. Он сидел долго, пока не почувствовал, что зябнет: от реки несло холодом. Поднялся, вновь обошел вокруг штабелей.
Немного усталый, но довольный тем, что ему удалось согреться, Цыганок вновь опустился на холодноватый и сырой пень. Потянулся за платком, чтобы вытереть вспотевшее лицо, и замер: за рекой вспыхнуло пламя, маленькое, похожее на шевелящийся красный язык. Вдали, в темноте, язык этот, казалось, висел в воздухе, лениво покачиваясь.
Читать дальше