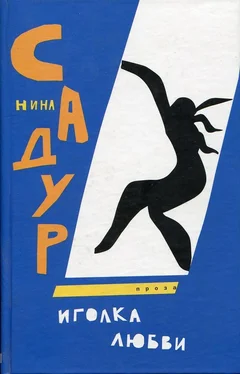— Ну, как дела? — спросил он в нос. И при этом слегка прикрыл глаза и откинул голову, словно так лучше мог разглядеть ее.
Она вообще не ответила, инстинктивно высвободила свою руку из его и спряталась под одеяло до самых глаз. «О господи, детский сад».
— Что? Что? — сказал он. — В чем дело?
Небольшие светлые глаза ее стали расширяться, в них забился ужас, самый настоящий ужас. «Она боится, — понял он. — Она боится, что ей придется за все отвечать». И он отвернулся от нее, посидел, слегка раскачиваясь, и лицо его сжалось в гримасу жалости, той, привычной, не иссякающей в нем жалости, которой он жалел все, что оставалось тут у него в живых. «Ну что же ты, деточка, — думал он смутно, — не доверяешь мне больше. Как мало ты еще знаешь, как мало любишь себя».
— Ты вот что, — сказал он. — Ты не дури, поняла? Все будет нормально. Ты всякую дрянь из головы выкинь. Поняла?
Ее светлые брови сдвинулись на переносице, она с трудом вникала в его слова, вид у нее сделался туповатый и озадаченный. Она ждала не этого и не верила.
— Ну? — сказал он. — Ты намерена отвечать хотя бы из приличия?
— Намерена, — отозвалась она, не сразу, правда, но отозвалась, и сделалось чуть спокойнее.
— Ничего тебе за это не будет, — сказал он, понизив голос. — Тебя тут вылечат и выкинут домой. Поняла?
— Поняла, — сказала она с явным облегчением и стала смотреть на него с любопытством и даже симпатией.
Он перешел к Антоновой, спросил, был ли терапевт. Терапевт был. Он не знал, выйдет ли Антонова из больницы. У нее было очень плохое сердце.
После обхода он завтракал с Аллочкой, процедурной медсестрой и Сержиком. Сержик был взволнован борьбой с санитаркой Клавой. У Клавы произошел трехдневный запой, и Сержик, как зав. отделением, обязан был поставить ей на вид. Сержик отважно наскакивал на Клаву и старался не кричать. «Клава, — почти не кричал он, — сколько раз тебе я говорил, будьте вы добросовестней, никто вас держать не будет! Я тебе говорил?» Клава хрипло отлаивалась, и Сержик, потрясая вздыбленной бородой, умолял, пугал и снова умолял Клаву не пить вина. За чаем у Сержика дрожали руки. Что-то он, этот спокойный Сержик, так легко выходил из себя в последние дни. Марек заметил это как-то отчужденно, он был сосредоточен на Аллочкином молчании. В молчании ощущалась угроза, надвигалась буря. Свежие, яркие Аллочкины щеки горели, какая она все-таки хорошенькая. Она ломала пастилку злыми пальчиками и смотрела в чашку, с безмерным удивлением смотрела в чашку, словно в чашке уместилась вся ее жизнь и оказалось, какая получилась маленькая жизнь.
После завтрака он оперировал. В два часа кончал работу. В два часа он их забывал, как лица из транспорта.
На следующий день пришла девкина бабушка. Ну, той девки, несовершеннолетней. Она жила с бабушкой. Бабушка смотрела заискивающе и молитвенно благодарила его. Ей хотелось жаловаться, порицать внучку, но чтобы он защищал ее и говорил, говорил, говорил все те слова, что ждали от него. Вот еще одна семья, где он неожиданно стал самым главным, и бабушка покорно отходила на второй план, ловя каждый жест его и готовая всю себя отдать по его приказу. Он сказал, какую еду надо носить Лене, и сказал, раз ей нет еще восемнадцати, то можно затеять процесс, найти автора, автора всей этой истории, и ему… Но бабушка испуганно замахала руками, на автора у нее сил не было. Поднять бы Лену, оплести ее старыми, теплыми еще руками, убаюкать бы. Для злости она слишком стара, слишком… Да, а где же Ленины родители? Родители ее на Севере, деньги зарабатывают на квартиру, в которой будет просторно, светло — и для бабушки комнатка, и для Лены. Родителям не станут сообщать. Нет, не нужно срывать их с места, нервировать. Лишние слезы, упреки, и Лену терзать. А ей нужен покой, покой… Настрадалась. Лена поступит на курсы, пойдет учиться. С весны, а зиму пусть отдохнет, да? Не надо ей работать эту зиму, или лучше даже в деревню ее увезти, больную девочку, у бабушки пенсия, а в деревне сестра Шура.
О, как много он знал жизней, имен, адресов. Как много людей думали о нем, вспоминали его за вечерним обедом в настороженных комнатах, усталых от беды, говорили, перебирали его приметы, обговаривали с тревогой подарок. Пьет или нет? Любит ли женщин? Чем увлекается? Что курит? Конечно, любит, пьет, курит. Он такой же живой. Тогда коньяк. Или нет, что-нибудь для его девушки (все почему-то узнавали, что он не женат). Но нет, лучше коньяк. Придет к нему его девушка, и выпьют они коньяк за их здоровье. У него ведь есть личная жизнь. Пусть ему будет хорошо в ней, лучше, чем им, неумехам (если он счастливчик, то от его удачи и им). Вот так о нем говорили в разных домах, в разных концах города, суеверно не замечая в нем недостатков (чтоб не спугнуть удачу и не подействовать как-то таинственно на его отношение к той, которую он для них спас). И он сказал все, что говорят о нем.
Читать дальше