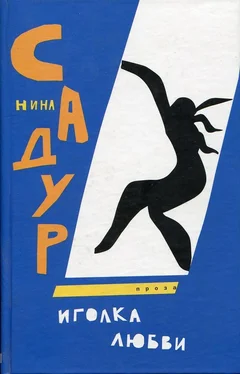— Почему только школьного?
— Потому что маленьких надо с родителями, а как же… некому останется работать. У нас там мясокомбинат. Нефтебаза. Бросить нельзя. Вот Лена — она на мясокомбинате, а я в медицине, я сестра экстренной хирургии. А у самой зоны, ну, знаете, там вообще некому работать, там вахтенная работа, по неделе, по месяцу посылают. У них учителей нет, врачей.
— Аня, а вы не боитесь?
— У меня муж боится. А я не знаю. Там же все. Но много стало переломов. Особенно в этом году.
— Не поняла.
— Стронций в костях оседает. Много ломают ноги и руки. Я же в хирургии, к нам везут. У меня у дочки волосы стали выпадать. Я не знаю… У нас ведь у всех дозиметры, нам выдали. Мы измерили — доза завышенная, мы пришли в горсовет, сказали: для наших детей завышенная доза. Нам сказали — это не ваша компетенция. Вам выдали продукты замерять, а другое не трогайте. Хотите киселя? Я сварила утром.
— Хочу.
— Сейчас Лена из душа выйдет, принесет. Он в комнате стоит.
Лена выходит.
— Здрасьте, очень плечи болят.
— Вы обгорели, мне Аня сказала. Надо помазать.
— У меня есть земляничный крем, посмотрите, как пахнет. Правда же, похоже?
Лена снимает халат по пояс, терпеливое, рожавшее тело с выпитой грудью, широкий живот.
— А где обгорело у вас?
Повернулась спиной. На шее слабые колечки волос.
— На, Аня, помажь.
— Можно я? Я умею.
— Помажьте. Спасибо вам.
Крем пахнет земляникой. Осторожно касается горячих плеч, чтоб не затронуть колечки волос.
— Подберите волосы.
— Вы сильнее втирайте, я потерплю. Мне не больно.
— У вас волосы сами вьются?
— У меня вообще не вьются.
— Ну вот же, на шее, колечками.
— Это от моря.
— А вы правда на мясокомбинате работаете?
— Да.
— Там у вас бойня?
— Бойня есть.
— Это страшно?
— Вы знаете, привыкают. У нас ведь есть женщины, которые по двадцать лет проработали. Они, правда, пьют сильнее других цехов.
— Я вообще не знаю, как ты там работаешь.
— Знаешь, Аня, надо привыкнуть. Я, например, не могу видеть крови. У вас в операционной кровь.
— Ну, не правда. Ну вот ведь неправду говоришь. Делают надрез и сосуды сразу же зажимают специальными зажимами. А у вас кровь, в сапогах ходят.
— Это другое совсем. Надо просто привыкнуть к работе, ты не права.
— Я бы к твоей не смогла.
— А я бы к твоей не смогла.
— Ну хорошо, ну я все понимаю. Ну раз там, вы сказали, этими приборами замеряют и сильная радиация, почему вас не выселяют?
— Ну у нас же мясокомбинат. Его же нельзя бросить.
— И нефтебаза. Ой, да, кисель же! Лен, принеси киселя!
Принесли киселя.
— Он очень вкусный. Здесь вишни и яблоки.
— Да! — сказала Оля. — Пахнет, — взяла чашку губами, потом отстранилась. — Вы ягоды здесь покупали?
— Нет, мы с собой привезли.
— Я… простужаюсь… Пусть он согреется.
— Он не в холодильнике стоял. В комнате.
— Я… пусть он постоит, — побежала с чашкой к себе.
Медсестра побежала за ней:
— Он же на окне стоял.
— На окне сквозняки, а я простужаюсь.
Встали в свете, медсестра поняла, опустила глаза, вышла молча.
Оля села на койку, чашку держит в руках, черно-красный кисель из городка «вы все равно не знаете, он маленький, под Гомелем». Глаза медсестры, терпеливые плечи подруги, запах земляники. Олечка вдруг диковато хихикнула, сама испугалась нового в своем голосе. Выпила тягучую влагу, черноватую. «Пьют кисель на поминках. Хорошо бы они увидели, что я его выпила. Бесполезно. Завтра они все равно меня разлюбят. При свете дня. Как все остальные жильцы».
Утром всех проспала, последняя пошла купаться. Глядела, как человек на доске катался под парусом. Катался мало, больше падал в воду — вода была лучше воздуха, манила и человека и парус. Потом пошла взять себе гоголь-моголь — мальчик в беленькой курточке продавал. Уронила стаканчик с ложечками. Испугалась, сделала строгий вид, извинилась. Поставила твердо стаканчик на место. И вдруг опять уронила, в другую сторону, все ложечки рассыпались, испачкались в беловатой воде, разлитой по стойке. Мальчик засмеялся ей ласково, нисколько не рассердился. Достал одну чистую ложечку, посмотрел южным взглядом. Она строго съела свой гоголь-моголь, очень любила доброго мальчика. Но вида не показывала.
Оля пошла в парк, погрустить под магнолией. Лучшая лавочка была рядом с Гоголем. Гоголь стоял в олеандрах. Бледный, он не смотрел никуда, зря солнце сквозь листья старалось, только нос чуть-чуть жил — в кончике носа желтела живая плоть, а сам Гоголь глубоко уснул, почти навсегда, мучимый недоступной нам мукой. Оля села рядышком, в глубину ядовитых цветов, и стала, как статуя, бледная, стала грустить и дремать. Ничто не виделось в дреме. Немного виделись ложечки — падают то туда, то сюда. От страха все уронила, а детский продавец угадал страх, дал чистую ложечку из скрытых запасов.
Читать дальше