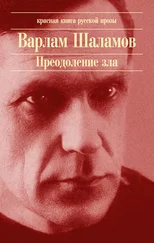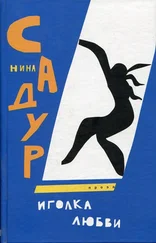— Сына, иди, поздоровайся, дядя Али приехал, лавашей привез, виноградику.
Петя рассмеялся и спрыгнул с подоконника. Стесняясь и щурясь, он вылез в столовую.
— Вах! Джигит! — равнодушно воскликнул дядя Али. — На, покушай, — и сунул черным пальцем в Петин рот кусок соленой лепешки.
Небольшими спокойными глазами внимательно следил, как Петя жует и глотает, а когда проглотил, увесисто выговорил:
— Мать печет. В горах. Ты любишь мать?
— Люблю, — промямлил Петя и распустил губы в кривой усмешке.
Вопрос был глупый. Ведь Петя был уже взрослый человек и уже спал с женщиной.
— Зачем смеешься, если любишь мать? — вспылил дядя Али.
Но Петя знал, что дядя Али на самом деле и не вспылил, что ему все равно, любит Петя мать или нет. Петя исподлобья рассматривал азербайджанца. Тот был невысокий, но кряжистый, с мелкими, какими-то непроявленными чертами и тревогу свою очень глубоко прятал. А тревожило азербайджанца только одно — что стоит кругом богатая и громкая Москва, а в ней высокие, наглые люди. Тревожило и даже как-то мучило. Он мог, уставясь в стену, простоять так с час, без единой мысли перекатывая в себе желтую злобу. Это почему-то тоже чувствовал Петя и иногда любил зайти сзади и, зная, что азербайджанец глуховат, громко крикнуть над самым его ухом:
— Здрасьте!!
На что тот, подскочив, отвечал неизменным:
— Шайтан!
— Нет Бога кроме Аллаха! — дурным голосом крикнул отец.
Петя в очередной раз с удивлением отметил, что отец боится дядю Али.
На лице же дяди Али промелькнула хитрость.
Дядя Али достал из кейса толстую черную гроздь винограда. «Киш-миш», — сказал дядя Али, и незаметно пробежала мышь. Дядя Али достал бледный сыр в мокрой тряпке, похожей на маму, и она, правда, прошла в зеркалах позади. Достал каких-то пахучих листиков и мешочек с орехами. Смутно повернулись какие-то «вертограды». Посидев над выложенным, дядя Али все это сдвинул в сторону и лег грудью на столешницу, вытянув короткие смуглые руки перед собой. Резко и сильно запахло потом.
Зиновий же, специально усмиряя ноги, засеменил, засеменил и обежал стол. Наверное, думал, пока бежал, что он — восточная женщина, что ли? Обежав, дернул усом и рухнул на стул напротив дяди Али. Сдвинув седые лбы, они чуть не прижались темными лицами. Хотелось, чтоб они стали тереться лицами, чтобы слиплись, вот так вот — нависнув над столом, чтобы заднемелькающая мама впаялась в зеркало, хотелось закрыть глаза.
Мужчины шептались.
Мама плечами пловчихи вдвигалась в амальгаму.
Петя взял орех, стал давить в ладони, пока ладонь не заболела. Дядя Али в замечательной своей звериности, не оглядываясь, протянул руку назад, к Пете: «Дай!» Петя дал орех. Дядя Али разгрыз его, выплюнул в глубокую ладонь, протянул Пете.
Петя поел ореха со слюнями под тоскливыми взорами папы. Мама в это время ушла в свою комнату, к своим зеркалам. К трельяжам. Петя пошел за мамой. Вошел. Она сидела, распустив негустые недлинные волосы, которые из последних сил тянулись с головы к плечам, не доставали, она их гладила, потом страстно гладила свою шею. Обхватывала пальцами мускулистое лицо. Большие бледные губы ее были вывернуты, глаза закрыты. Очки вверх ногами валялись на подзеркальнике.
— Мам, живот болит, — наврал Петя.
Три ведьмы глянули из трех зеркал, усмехнулись. Основная же, из которой изошли три остекленные, даже не обернулась.
— Мессир, мессир, — шептала основная, — Мессир, мессир…
— Мам, я поплаваю? — крикнул Петя с радостью в голосе и побежал вниз.
Дом, в котором жил Петя Лазуткин, состоял из трех этажей. Причем первый был ровесник смерти Гоголя. Два же вторых ничего про Гоголя не знали, зато видели полярных летчиков. Во время войны в дом попала бомба и снесла два советских этажа. Первый же не пострадал, так как замешан был умными, тихими монахами на яйцах. Потом два верхних этажа вновь отстроили. А глубочайший подвал, вырытый все теми же монахами под крупы, сало и муку пустовал, чернел до поры и гулко отзывался на легконогий топоток верхних жильцов, которым казалось, что они живут на свете давно и хорошо, а на самом деле их время было узким и почти безвоздушным — в подвале это ощущалось.
Две зимы назад Зиновий привел какую-то трепетную старуху с больными глазами, и она копала подвал до самой весны. Землю она выносила ведрами ночами пустыми и стылыми. Ночи нависали над земляной старухой голыми деревьями и бледным ветром. Старуха отбегала в тень забора, садилась на корточки и мочилась неожиданно тугой и горячей струей мочи. Землю свою старуха укладывала кучкой. За ночь кучка вырастала в кучу, покрывалась наледью или порошей. А на рассвете подъезжал грузовик и увозил поддомную сворованную землю.
Читать дальше