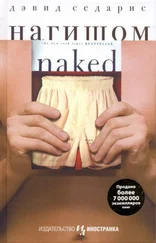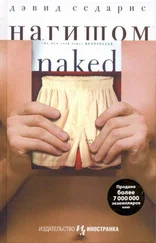Дэвид Седарис
Усилитель вкуса


Пока северокаролинский музей изобразительных искусств не перенесли на окраину, в район выставки-ярмарки, он находился в центре Рэли. В детстве мы с моей сестрой Гретхен часто прогуливали там церковь — вместо службы целый час рассматривали картины. Собрание было не самое богатое, но с основными вехами знакомило, а заодно не позволяло забыть, что сам-то ты безнадежен. Мы с Гретхен оба мнили себя художниками: она причисляла себя к тем, кто действительно умеет рисовать карандашом и писать красками, а я — к тем, кто только притворяется. Сестра останавливалась перед какой-нибудь картиной поодаль и начинала медленно, почти незаметно продвигаться вперед, пока не утыкалась в холст носом. Исследовала полотно целиком и по кусочкам, водила в воздухе пальцем, повторяя мазки, — сопереживала.
— Ты о чем задумалась? — спросил я однажды.
Гретхен ответила:
— Да так — о композиции, о текстуре, и что когда стоишь далеко, все выглядит реалистично, а вблизи — непонятно.
— Ага, я тоже, — сказал я, хотя на самом деле думал, как было бы здорово иметь самое настоящее произведение искусства и экспонировать его в своей комнате. С моими доходами — для заработка я присматривал за соседскими детьми — о холстах даже мечтать не стоило. Я делал ставку на открытки — покупал по двадцать пять центов в музейной лавке. Делал для них паспарту из картонок — для солидности. В поисках свежих идей для рам я как-то забрел в маленькую арт-галерею под названием «Маленькая Арт-галерея», которая появилась в нашем городе относительно недавно. Галерея квартировала в торговом центре «Норт-Хиллз». От хозяйки — звали ее Рут, она была примерно в возрасте моей матери — я впервые услышал выражение «просто сказочный». То есть не «сказочный», а в контексте: «Может быть, вас заинтересует новый Матисс? Просто сказочный, только вчера привезли».
То был постер, а не холст, но все равно я уставился на него с видом знатока: снял очки и, засунув в рот дужку, склонил голову набок.
— Пока даже не знаю — не уверен, как он будет сочетаться с другими вещами из моего собрания, — сказал я, подразумевая календарь с Климтом и конверт некого альбома King Crimson, прикрепленный кнопками к обоям над комодом.
Рут обходилась со мной как со взрослым. Наверно, ей приходилось нелегко, учитывая, что выделывал я.
— Не знаю, в курсе ли вы, — как-то поведал я ей, — но, оказывается, Пикассо вообще-то испанец.
— Правда? — переспросила она.
— Я держал его открытки на французской стене — это над письменным столом, но теперь перевесил к кровати, рядом с Миро.
Рут прикрыла глаза, пытаясь вообразить новую композицию.
— Хорошая мысль, — проговорила она.
Галерея была недалеко от школы, и после уроков я часто туда заходил и зависал на несколько часов. А когда все-таки возвращался домой, то на вопрос матери «Где ты был?» — отвечал: «Да так, у моего дилера».
В 1970 году в доме моих родителей было всего два произведения искусства. Генеалогическое древо и групповой портрет углем — мои четыре сестры и я — работы какого-то уличного художника. Древо и портрет — два листка без рам — висели в столовой. До знакомства с Рут я находил, что они весьма недурны, но позднее пришел к выводу, что творческого полета как-то маловато.
— А чего ты хочешь от портрета пяти избалованных детей? — спросила мать, и я вместо разъяснений повел ее к Рут. Я заранее знал, что они поладят, но чтоб до такой степени! Вначале они беседовали обо мне: Рут нахваливала, а мама в принципе соглашалась.
— Да-да, — говорила она. — На его комнату посмотреть приятно. Все по местам разложено.
Затем мать тоже начала захаживать в галерею. И возвращалась не с пустыми руками. Ее первым приобретением стала статуэтка — непропорционально-долговязая мужская фигура, сделанная словно бы из крученой бумаги, а на самом деле из тонких металлических пластин. Этот человечек двухфутового роста держал в руках три ржавых стержня, на которых были укреплены стеклянные воздушные шарики, как бы парившие над его головой. Мистер Аэростат, — нарекла его мать.
— По-моему, эта высокая шляпа ему не очень подходит, — сказал я ей.
А мать воскликнула:
Читать дальше