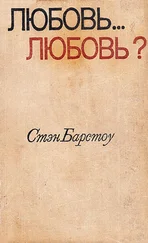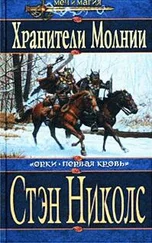— Это можно понять. Вам с братом того хуже досталось.
Хеплвайт, поерзав, подался вперед, аккуратные руки свесил между толстых ног.
— Миссис Нортон будут судить? — спросил я.
— Не понял?
— Да ведь очевидно — ударила она?
— Да, — признал он, — на кочерге не обнаружено других отпечатков пальцев. Только ее и Нортона, — он примолк, словно бы нехотя смиряясь с такой слишком уж очевидной разгадкой. — Да, наверное, ей предъявят обвинение.
— Непонятно, как это она.
— Кому ж ведомо, что творится за закрытой дверью между мужем и женой? Поговаривают, он бил ее.
— Про это и мы слыхали.
— При осмотре у нее на теле обнаружили синяки. Алкоголичка. Возможно, с душевным расстройством. Впала в крайность. И кинулась на него. Само действие не отнимает и минуты, но вынашивала она его, может, годами. — Мы услышали, как стукнула входная дверь. — Брат?
— Наверное.
— Надо и с ним поговорить.
— Пойду позову, — я встал. — Между прочим, нам спасенья нет от репортеров. Бонни, сами знаете, знаменитость, а последнее время его имя без конца мелькает и газетах.
— Как только миссис Нортон предъявят обвинение, дело становится sub judice, — сказал Хеплвайт. — Тогда у газетчиков есть право помещать лишь сухие факты. Попробуйте отвадить их таким способом.
— Спасибо. Пойду за Бонни. Хотите поговорить с ним наедине?
— Желательно.
Юнис, забравшись с ногами на диван, читала газету. Я подумал, что Бонни на моем месте давно бы выдворил девицу. Но я чувствовал себя странно непричастным к случаю на кухне. Я понимал, что выгляжу дураком, позволил ей завладеть инициативой, и мне не раз еще придется пожалеть об этом, но пока что я словно отрешился. И все‑таки надо ж, какая дрянь девка! Есть ведь и другие способы охладить мужчину. Эта же пустила в ход эдакую хитрую издевочку!
Я пролистал журнал. Реклама настольных дорогих часов в медном корпусе, кожаные «дипломаты», новая серия серебряных медалей, на сей раз в честь знаменитых битв и полков, страничка мод: манекенщиц снимали в глухой греческой деревушке — на заднем плане неуверенно ухмыляются крестьяне, которые на месте бы пришибли своих жен, вздумай те разгуливать в таких нарядах.
Телефон. Я машинально встал было, но тут же уселся снова.
— Проще снять трубку с рычага, — предложила Юнис.
— Тогда будет занято. А вдруг друзья позвонят?
— Так вы же все равно не берете трубки, какая разница?
— Будет желание — возьму.
— А еще женщин винят в нелогичности.
— Да уж никак не вас, Юнис.
— Жалко, что не комплимент.
— А мне сдается, вам безразлично.
— Допустим, — пожала плечами девушка.
Я отложил журнал и принялся за другой, по искусству. Скользил по строчкам, ничего не улавливая и не запоминая. Больше всего мне хотелось, чтобы вошла Эйлина, протирая глаза, улыбнулась: «Господи, так бы и спала все воскресенье! Кому кофе сварить?» И жизнь двинулась бы своим заведенным чередом. Мне и невдомек было, насколько, оказывается, я зависим от Эйлины. На Эйлине держится и строй и смысл моего жизненного уклада. Вину за перемену мне хотелось взвалить на Бонни, на его приезд: раньше у нас все клеилось. Но в трагедии соседей Бонни уж никак не виноват. Нет, вернее всего, Эйлина уже давненько потосковывает, а я не замечал.
Тучи рассеивались, в окне робко заиграло солнце.
Я пребывал в каком‑то подвешенном состоянии. Никакой свободы выбора. Плетусь вслед за событиями. Таков и мой интерес к современному искусству. Сосредоточившись, я узнал из журнала про сериал из шести новаторских телепьес модного драматурга, про американский научно — фантастический фильм, нашумевший в Лондоне, про новую книгу молодого и уже популярного английского романиста, про феминистский роман какой‑то американки. Все течет и совершается, минуя меня. В моей воле лишь высказываться: нравится — не нравится. Быть искренним и восхищаться или, завидуя, кисло морщиться. Самому мне недостает творческой активности выплеснуть талант, который, возможно, кроется во мне. Мне не дано воздействовать на кого‑либо. Видно, навечно застрял в зрителях. Даже обучая, упираю я главным образом на устоявшиеся истины. Какая из меня личность? Типичная заурядность, только что образование может сойти за хорошее. Примерный сын, который не причиняет хлопот родителям, добропорядочный гражданин с правильными, в меру либеральными воззрениями, дрейфующий по реке жизни к пенсии.
На столе у меня громоздится стопка сочинений, надо их прочитать и выставить оценки. Ну их к черту! После проверю. А не успею, так на уроке сымпровизирую. Как же рассказывать коллегам о миссис Нортон, про то, как мы нашли Нортона? Легко? Небрежно? (Каких только соседей не попадается!) Или сострадательно, встревоженно? Беда в том, что я сам не в состоянии определить свои чувства к Нортонам: ни к погибшему, ни к его душевнобольной жене. Да, от событий у меня холодок по спине, но участники — люди… Ведь знал же обоих, пусть не близко. Симпатии не вызывали, наставить их на путь я не мог бы. Иные из моих коллег заботятся — что часто чревато неприятностями — о судьбе учеников из неблагополучных семей и ребят с физическими или душевными отклонениями. А я не считаю подобное своим долгом. Учу ребят чему обязан учить, а остальное уж дело родителей, сферы социальных служб, медиков, полиции. Почему я должен испытывать чувство вины, что не взваливаю на себя бремя, нести которое не приспособлен и не обучен? Нет, сегодня что‑то цепочка мыслей у меня не выстраивается.
Читать дальше

![Стэн Барстоу - Святая ночь [Сборник повестей и рассказов зарубежных писателей]](/books/26022/sten-barstou-svyataya-noch-sbornik-povestej-i-rassk-thumb.webp)
![Нина Гастелло - Рассказ о брате [Документальная повесть]](/books/34423/nina-gastello-rasskaz-o-brate-dokumentalnaya-pove-thumb.webp)