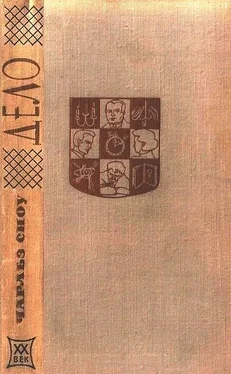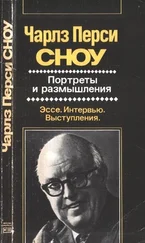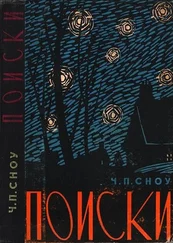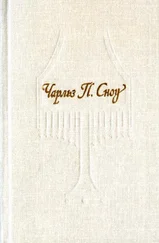— В честь чего я все это и устраиваю, — сказала она, указывая на бокалы в столовой.
Тут она нисколько не лицемерила. Она была совершенно лишена дара, столь желательного в мире больших дел, — устраивать так, чтобы правая рука не ведала, что творит левая. Ее правая рука все прекрасно ведала. С наивной беззастенчивостью она намеревалась подталкивать его вверх по иерархической лестнице, с тем чтобы водвориться в конце концов вместе с ним в резиденции ректора.
Когда я понял, что она задумала, мне показалось, что ее надежды простираются слишком уж далеко. Должность ректора, вице-канцлера университета — вот какие картины рисовало ее воображение, так же как в юности оно рисовало образы несуществующих великосветских поклонников. Но Мартину нечего было и мечтать о должности ректора. Айрин была плохим политиком и не знала, когда можно надеяться и когда нужно надежду оставить. Самое большее, на что она могла рассчитывать для Мартина, была должность проректора в случае избрания Артура Брауна ректором в будущем году (в возможность чего я все еще никак не мог поверить). Высшей должности в колледже он добиться не мог. И тут я вспомнил язвительное замечание Лауры Говард, что Мартин спит и видит, как бы занять место Брауна. Неужели это правда, думал я. Я был свидетелем того, как умело использовал свои возможности мой брат, когда шел по пути к власти. Почему я был так уверен, что Мартин свяжет себя с Фрэнсисом Гетлифом? Почему бы ему не примкнуть к партии Брауна, а заодно не расчистить подходящее местечко и для себя самого?
Во всяком случае, я почти не сомневался, что именно это было в мыслях у Айрин. Вскоре начали собираться первые гости, и я уже не мог больше ничего у нее выведать. Но я стал присматриваться к приглашенным. Случайно ли среди них нет Гетлифов? Составят ли в будущем собравшиеся здесь прочное ядро партии Брауна?
Я стоял с тарелкой и бокалом в руках, когда до меня донесся разговор, касающийся факультета английской литературы, и вскоре я оказался вовлеченным в спор с Г.-С. Кларком. Как и все остальные ученые, присутствовавшие на этом приеме, он был избран в члены совета уже после войны, однако, не б пример Тому Орбэллу, Инсу и еще двум-трем, он был человеком не первой молодости. По моим предположениям, ему было уже за сорок. Ребенком он перенес полиомиелит, и одна нога у него была парализована. Лицо выражало кроткую обиду, в нем было что-то детское и в то же время оптимистическое — такое выражение можно встретить иногда у калек. Цвет лица был здоровый и свежий. Хотя левая нога его была в стальной шине, он отказался сесть. Продолжая упрямо стоять, он спорил со мной.
— Нет, — говорил он, — при всем моем уважении к вам, я не согласен.
Я поддразнивал его. Я говорил, что всего лишь высказываю скромную мысль, что экзаменационная система, существующая в Кембридже в настоящий момент, в ночь на 25-ое декабря 1953 года, возможно, не всегда будет считаться совершенной. Почему, собственно, это его так ужасает? Он улыбнулся кроткой и терпеливой улыбкой инвалида.
— Я же высказываю скромную мысль, — ответил он, — что сейчас проще, чем когда-либо, изменить существующий порядок и только еще больше все запутать.
Когда бы мы ни встретились — а случалось это довольно часто, так как он занимал вторую часть мартиновского дома, — я всегда сначала любовался его милой оптимистической улыбкой, а затем упирался в такую вот непробиваемую стену. Но сейчас было не время для споров, и я спросил, как подвигается его труд. Он заведовал кафедрой современные языков и, кроме того, работал над книгой о немецком писателе Фонтейне. По мере того как он, все более оживляясь, рассказывал о школе романтического реализма девятнадцатого столетия, его акцент становился все резче, подчеркнутее: он был уроженцем Ланкашира и происходил из самой настоящей рабочей семьи. Я уже прежде думал над тем, что подлинному выходцу из рабочего класса чрезвычайно редко удавалось пробить себе дорогу к профессорскому столу, хотя это оказалось возможным для горстки представителей класса, стоящего ступенькой выше, вроде меня самого. За всю историю колледжа можно было насчитать человека три-четыре, не больше, которые начали бы там же, где начал он.
В это время раздался голос его жены — голос, окрашенный едва уловимым иностранным акцентом, со слишком твердыми для английского уха согласными.
— Я забираю у тебя Люиса. Не забывай, что я с ним знакома дольше, чем с тобой.
И правда. Когда мы только что познакомились, она была беженкой и муж у нее был другой. Тогда она была Ханной Пучвейн — хорошенькой и элегантной молодой женщиной с гладкими, блестящими, иссиня-черными волосами, с горящими черными глазами, способная любого поставить в тупик своей прямотой и резкостью. С Пучвейном она рассталась, видимо, в порыве раздражения; ее всегда окружала толпа поклонников, и она едва не вышла замуж за самого неподходящего из них. Мы уже тогда говорили, что она, наверное, сделает самый неудачный выбор из всех возможных, но даже при всем этом я был поражен, узнав, что она вдруг вышла за Кларка. Известие это не только поразило, оно оставило смутный, неприятный осадок.
Читать дальше