Она попыталась найти защиты у Демуазель де Пари, которая выслушивала ее, словно речь шла о каких-то чудесах, и начинала рассказывать всякие парижские байки, а сами они в это время перебирали бриллианты, что были нашиты на подкладку ее платья. В последний вечер Жюли решила устроить прием, на который никто не соизволил явиться. Она прождала целую ночь, красуясь в своем дивном платье, переливающемся ослепительным сиянием. Решив бежать, она перелицевала платье, бриллианты кололи ноги. Она долго надеялась, что по возвращении вновь переделает все как было, пусть эти камни ослепят их всех. Мне это больше не понадобится, — вздохнула она.
Их было так много, что они покрыли всю поверхность стола. Она перебирала их, как шахматные фигуры или игральные кости. Жюли обратила внимание, что если долго играть с бриллиантами вот так, пальцы становятся скрюченными…
— У меня ненависть сидит прямо внутри, — признавалась она Демуазель де Пари, — она меня пожирает и ослепляет, я все время думаю, как отомстить, но все способы кажутся мне недостаточно жестокими, это совсем не то, что я хочу. Почему же мой ум, который так хорошо служит мне в делах, здесь оказывается бессилен? Я мечтаю подвергнуть их такому унижению, причинить всем такую боль, чтобы им стало в тысячу раз хуже, чем мне, но у меня ничего не получается, более того: как если бы все, что я придумываю, оборачивалось против меня и усиливало мою собственную боль. Я убью себя.
Пытаясь как-то успокоить ее, Демуазель де Пари водила ее по саду, где сама в течение стольких лет пыталась рассеять собственную скуку. Она любила один старый вольер, в котором жил сокол. Когда-то его вынул из гнезда некий крестьянин и, мало осведомленный о повадках этих птиц и о правилах дрессировки соколов для охоты, подсунул его курице, поскольку в его представлении любое существо, обладавшее перьями, крыльями и клювом, имело отношение к домашней птице. Но приемная мать выклевала соколу глаз, продемонстрировав таким образом, что этому сыну лазури предпочитает собственных отпрысков. Искалеченный и несчастный, он кормился дохлыми мышами, которых удавалось отбить у кошки, разной падалью и так влачил свое существование, болтался в вольере, словно грязная, мятая тряпка, дрожа от страха перед грозными курами.
Демуазель де Пари подвела Жюли к несчастной птице, спрятавшей голову под крыло.
— Вот вам прекрасный символ, напомнивший мне о трусости Принца, — сказала Жюли, — некто бахвалится перед всеми, возвышается, как король, но только окажется в клетке, дрожит перед обыкновенными курами.
Ей пришла в голову мысль подарить Принцу де О. этого сокола и даже присвоить ему имя — Брут. Они с большой тщательностью подготовили птицу к путешествию, такого, как он был, запаршивевшего, грязного, с пролысинами под левым крылом, где проглядывала убогая плоть, с ощипанным хвостом и страшной дырой на месте выклеванного глаза.
— Но по каким признакам он узнает в этой птице себя? — поинтересовалась Демуазель де Пари.
— Да по всему: такое же убогое, вшивое, общипанное существо, а главное, на глазу у него тоже черная повязка.
Она дождалась ответа. Богато убранная карета, запряженная шестеркой лошадей, с невероятным грохотом въехала во внутренний двор замка. Это была карета Принца де О. Лакей открыл дверцу, другой пододвинул приставную лесенку. Из кареты появилась крошечная мартышка, по моде того времени на ней красовался белый парик, она была одета в платье голубого шелка и намазана румянами до ушей. Она поприветствовала присутствующих, присев в грациозном реверансе, затем, одурев от свободы, испустила пронзительный вопль и тремя огромными прыжками исчезла в саду. С тех пор из окна своей комнаты Жюли могла наблюдать за этой мартышкой, которая, усевшись на самой высокой ветке самого большого дерева, разорвала платье и все приседала и приседала в реверансе. При первых заморозках слуга нашел ее тельце на земле — обезьянка умерла от холода. Милая шуточка, только продолжалась недолго, — пробормотала сквозь зубы Жюли, но Эмили-Габриель потребовала для мартышки погребения по христианскому обряду, на которые согласился и Исповедник, увидевший в этом признак святости, и пожелал обсудить это с Панегиристом.
— Что вы думаете, господин Панегирист, вы ведь наблюдаете эту историю гораздо дольше, чем я?
— Именно так, господин Исповедник, я вообще об этом ничего не думаю, впрочем, это не вина Эмили-Габриель, дело в том, что мое собственное мнение заблудилось и никак не может отыскать дорогу. Судите сами: я назначен Панегиристом Софии-Виктории, я записываю все ее возвышенные речи, отмечаю ее чудесные поступки в течение многих лет. Но в какой-то момент, почти вопреки собственной воле, я все больше начинаю интересоваться Эмили-Габриель, оставляю Софию-Викторию и пропускаю главу. Вы должны понять меня, господин Исповедник, я могу признаться в этом только вам одному: как если бы при Сотворении мира я отсутствовал в момент падения и, оставив Адама и Еву в раю, отыскал их уже на земле.
Читать дальше
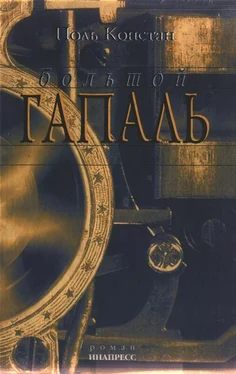


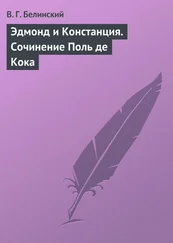




![Иоанна Хмелевская - Большой кусок мира [Большой кусок света]](/books/339503/ioanna-hmelevskaya-bolshoj-kusok-mira-bolshoj-kuso-thumb.webp)
![Жан-Поль Сартр - Ставок больше нет [litres]](/books/397998/zhan-pol-sartr-stavok-bolshe-net-litres-thumb.webp)

