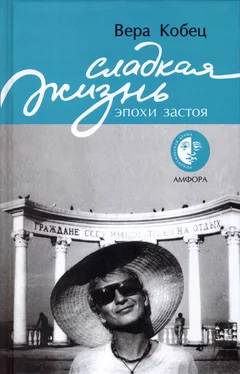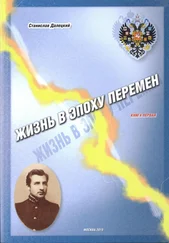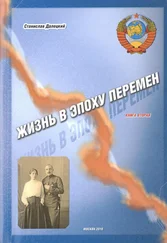«Удалось раздобыть билеты на „Люди и страсти“. Если получится, вымой посуду». Последнее слово он угадал — написать у нее уже не было времени. Вместо букв получился крючок, похожий на вопросительный знак. На подзеркальнике рядом с запиской валялось два черных комка, оказавшихся при рассмотрении свитером и шерстяными колготками. На полу, в метре одна от другой, — черные туфли на тонком прямом каблуке (хотела взять, но в последний момент передумала). Положив туфли и свитер в шкаф, Дима неторопливо прошел в ванную, сунул колготки в ящик под раковиной, завинтил крышки флаконов и баночек и, выпрямляясь, поймал свое отражение в зеркале. Поморщился, вспомнив, как утром столкнулся на лестнице с Людой Степановой. Она, вихрем вылетев из дверей, сказала: «Ой! привет, Димка, и какой же ты стал красавчик!» Потом приблизилась, так что видны стали плавающие в зрачках желтые искорки, глянула по-кошачьи: «Ммм, прямо съесть хочется», — облизнулась розовым острым язычком и, крутанувшись на одной ноге, со смехом кинулась вниз по лестнице. Воспоминание об этой сцене снова вызвало легкую тошноту. Почему, собственно?
В пятом классе они со Степановой сидели за одной партой, после восьмого она ушла в Школу торгового ученичества. Теперь была совсем взрослой, и трудно даже поверить, что это она приставала к математичке, слезно прося исправить двойку на тройку, а на контрольных усердно списывала, от напряжения и старательности высовывая кончик языка. Да черт с ним, с ее языком! Окончательно разозлившись, Дима вышел из ванной, со стуком захлопнув дверь.
«…если получится, вымой посуду». Стряпая, мать умудрялась испачкать всю кухню. Сейчас больше всего пострадал холодильник. Судя по красным пятнам на его ослепительно белом (сам вчера вымыл) боку, Дима сначала предположил, что гвоздем программы выступал фирменный борщ. Но глубоких тарелок на столе не было, а на блюде — последнем воспоминании о кузнецовском сервизе — виднелись остатки рыбы. Значит, скорее всего, в индейской раскраске многострадального холодильника повинен «на весь мир знаменитый Аленин соус». Установили. Так, дальше. Консервные банки открыты решительно все. Похоже, пир был не на шутку. Человек на двенадцать-пятнадцать, прикинул Дима, на ходу пересчитывая бутылки. Все это, в общем, не так уж и занимало, но мысль работала, вычленяя варианты. Среда. Мать с утра в институте. Последняя пара — в любимой кураторской группе. В любимой кураторской группе жизнь всегда бьет ключом, а если вдруг замирает, мамуля мгновенно находит способ ее оживить. Однако сейчас в стимуляторах нужды нет. Все и так просто раскалено. Почти месяц идет война с деканатом: пытаются «отстоять» Сашу Маврина. Саша — звезда факультета, но с прошлой сессии за ним тянутся два «хвоста». Группе, как и куратору группы Елене Дмитриевне, причины более чем ясны. У Саши невероятный, на разрыв жил, роман с Таней Брик. У него пожар в сердце не меньше, чем у В. В. Маяковского. О каком диамате или немецком он может помнить? Но деканат тупо не хочет войти в положение Саши, литературного клуба «Эврика» и предстоящего Фестиваля студенческой песни. В попытках спасти положение, группа решила устроить что-то вроде сидячей манифестации. И, судя по кухонному пейзажу, победа одержана.
«Не понимаю, как можно столько курить», — распахивая в комнате окно, Дима впускает проворный, ко всему любопытный ветер. И сразу же поднимается вихрь: летят на пол салфетки, волнуется и шуршит, словно пытаясь вырваться, занавеска. «Гляди-ка, разве что не утюги за пирогами!» Ссыпав окурки в бумажный пакет, Дима ставит на поднос чашки, рюмки, кофейник. Да, догулять у них явно не получилось. В самый разгар веселья — звонок. «Алена, скорее! Жду в вестибюле у правой кассы». И выясняется, что любовь к театру сильнее любви к кураторской группе. Ну что тут поделаешь, дорогие мои! Наша Елена Дмитриевна многогранна.
Перемыв всю посуду, Дима наконец-то проходит к себе. Привычно оглядывается: порядок образцовый. Матери сюда вход воспрещен. Давно, с того дня, когда, возвратившись из школы, он застал в комнате всю их кодлу. Развалясь в кресле, посмеивался в усы Павел Павлович Закс, он же Наш общий друг, он же Пафик. Иришка, лучшая подруга матери, пристроившись на подоконнике, вся ушла в созерцание собственных ножек. Васька Рогалик, разумеется, торчал рядом и нежно поглаживал ей колено. Впрочем, это неважно: их нравы — их дело. Противнее было другое: Татка, которую Дима всегда недолюбливал, полулежала на его письменном столе, а мать, растянувшаяся среди диванных подушек, принимала это как должное. Все они были в отличнейшем настроении и, каждый на свой лад, острили, слушая, как Кубасов — трепло! мерзкий шут! — гнусаво (видимо, кого-то передразнивая) ернически комментирует его, Димины, рисунки, прикнопленные во всю ширь стены от пола до потолка. Не здороваясь и вообще не произнося ни слова, Дима шагнул вперед и начал отдирать листы. Кубасов что-то вещал по инерции, наслаждаясь звуком своего голоса; мать и Татка по-прежнему плавали в эйфории, но умненькая Иришка смекнула, что дело серьезно. «Ребята, а мы ведь залезли в чужую берлогу, — звонко выкрикнула она. — Айда на выход! Рогалик, за мной».
Читать дальше