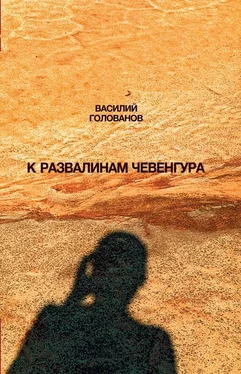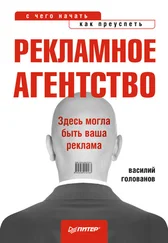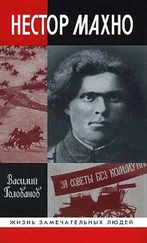В Москву Мишка приезжал после охоты, весной, с повадками мужика, который распугает любую литературную тусовку. Мы пили пиво, он рассказывал свои сибирские байки, всегда очень громким голосом, почти крича, будто силясь переорать рев мотора или шум воды, и – мне казалось – я прямо вижу, как «прет» Енисей весной, неся бревна и сверкающий лед, или как вдруг в пороге срезает шпонку винта и потерявшую ход лодку сминает и крушит вал тяжелой, как железо, воды, или как подкрадывается зима, вдруг сжимая лес неподвижным холодом, и звезды в небе блестят льдисто, и вода дымится, как кипяток, и тишина – будто кто-то вырубил звук и ты смотришь немое кино…
За лето Мишка успевал написать несколько рассказов, торопливо раздавал их по журналам и начинал собираться обратно. Я говорил, что он все делает неправильно, а сам завидовал и его безалаберности, и точности его языка, и образам, которые он нарыл, перелопатив столько словесной руды и испытав их собственным опытом, потому что есть вещи, которые невозможно придумать и невозможно назвать, не испробовав на собственной шкуре: «Утром мотор так замерз, что пришлось разводить костер и жарить его, как барана». Он уезжал обратно в Сибирь жить, жить вместе с Дедом, с Васькой, с Лехой, Громыхалычем или Бичом Геной, со всеми своими героями, которые ведь должны были доверять ему, чтобы позволить написать правду о себе, а для этого нужна была его щедрость, он должен был делиться собою. Ибо писатель сам выкармливает своих героев…
Как ни странно, наиболее требовательно к московским Мишкиным занятиям подходит Гена Соловей. В его отношении к ним нет никакого пренебрежения к литературе. Напротив. Гене бы хотелось, чтобы Миша написал что-нибудь «серьезное». Роман. Скажем, о том, как из России отправляют сюда, в Туруханский край, ссыльного. Какого-нибудь социал-демократа. Или нет, на социал-демократов Гене, пожалуй, наплевать. Лучше крестьянина. И вот мужик, пока тащится этапом, все думает, что непременно погибнет здесь, сгинет в пустыне, в холоде. А приезжает – и вдруг видит, что попал… на чудесную землю. Обильную, вольную. Леса – навалом, дичи – навалом, рыбы – навалом. Климат бодрый, здоровый. Люди сильные, свободные, не заезженные всей этой российской жандармерией, не загаженные . Только радуйся! Только живи! И он начинает жить…
Замысел Соловья поразительно продуктивен, потому что, как только берешься хоть чуточку разрабатывать его, сразу же и неизбежно открываются очень интересные вещи.
Во-первых, Гена прав и никто из политических ссыльных для предполагаемого им беспорочного житья и радости на лоне природы не годится и, следовательно, не может стать героем его романа. Декабрист М.С. Лунин, скажем, прогуливается с княгиней Марией Волконской берегом Ангары и даже замечает великолепие окружающей его природы, но ему мало этого. Письма свои из Сибири он пишет исключительно для Петербурга (и пишет по-французски), при этом не умея или не желая скрыть своей устремленности на Запад – и не в столицу даже, а еще дальше, в Европу: «…помню свидание в галерее замка N, осенью, в холодный дождливый вечер. На ней было черное платье, золотая цепь на шее и на руке браслет, осыпанный алмазами, с портретом предка, освободившего Вену. Девственный взор ее, блуждая туда и сюда, будто следил фантастические изгибы серебряных нитей на моем гусарском ментике…»
Оставим Лунина: герой Бородинского сражения, кавалергард, открыто перекрестившийся в католичество да еще впитавший в русскую душу польскую фронду, он и в отечестве своем был чужак, здесь – невольник. Оставим вообще декабристов. Но ведь после них тысячи политических прошли через Сибирь. Неужто никто из них не переключил внимание свое с того, что занимало его прежде, на жизнь края и народа, средь которого он оказался? Мы оглядываемся в полном недоумении: никого нет. Единственный пример, мне известный, – Д.А. Клеменц, землеволец, который, будучи сосланным в 1879 году в Восточную Сибирь под надзор полиции, вскоре совершил несколько научных экспедиций по Сибири и Монголии, а вернувшись в конце века в Петербург, стал сначала старшим этнографом Музея антропологии и этнографии Академии наук, а затем – организатором этнографического отдела Русского музея…
Второе, что непременно выяснится, – это полное смешение здесь, в европейской России, географических представлений о Сибири (и, похоже, чем дальше на запад, тем жутче представляется она; во всяком случае, современный писатель Кеннет Уайт в прекрасном геопоэтическом исследовании «Дух странствия» убежденно говорит о «заледенелых тундрах Сибири»). Меж тем «райские места» в районе Бахты, где предполагал бы поселить своего героя Гена Соловей, находятся не менее чем в 400 километрах к югу от полярного круга (то есть южнее Архангельска и гораздо южнее, скажем, Рейкьявика). Это места действительно уникальные по красоте и богатству природы, но и они, похоже, в царские времена представлялись сущим адом: «политических» сюда не ссылали. Шушенское, где отбывал ссылку Ленин, – как минимум на тысячу километров южнее Бахты; знаменитая Акатуйская каторжная тюрьма находится так же далеко от Туруханска, как Астрахань от Ярославля. На это обращал внимание П.А. Кропоткин (которого, как и М.А. Бакунина, легко представить себе в Сибири невольником, но который, однако, находился здесь по собственному хотению и именно здесь выносил зачатки своего идейного анархизма): «Сибирь – не мерзлая страна, вечно покрытая снегом и заселенная лишь ссыльными… Растительность Южной Сибири напоминает флору Южной Канады…» Туруханский же район, где, как известно, живал на поселении товарищ Сталин, стал местом массовой ссылки лишь во время первой русской революции; и когда Сталин не без пользы для здоровья проводил тут время, в туруханской ссылке было едва ли 100 человек.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу