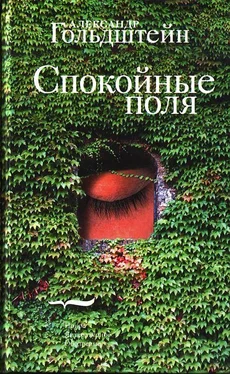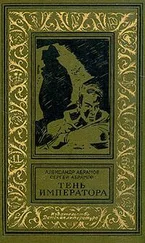Прошли насквозь лесок, погремели в автобусе, поскрипели в трамвайчике, к концу дня многолюдном и пролетарском, устало бранчливом. Стемнело, на вокзале зажглись фонари, торговали вручную чулками, привозным табаком и немецким презервативом у Крепости. Мы попрощались около садика павших героев с высеченными на обелиске именами людей, неизвестно где похороненных и чему послуживших. Размер предполагаемого дела, которому они отдали себя, съежился в сумерках до самого среднего. Павел расстегнул пальто, спрятал фуражку в портфель с «Энеидой». Ладонь его, против обыкновения, была не холодной, а теплой.
* * *
Солнце и свет в Тель-Авиве особенные, ничего общего со скандинавскими редкими выблесками из-за туч. Как тосковал на соломенной крыше по солнцу подросток, чей поздний комфорт на террасе в Монтре или в Риме соблюден по всей тонкости угасания. Римское солнце и в полдень закатно, очаровательно. Очарование для того и придумано, чтобы воспеть римское солнце и все, чему оно светит: вечерняя заря, пышное зарево обагряет таинственную прахообразность земли. Вечера на Авентине, звонят Angelus, прощально золотеют стекла Мальтийской виллы, слепые гуляют в монастырском дворике, полном апельсиновых деревьев с яркими и сочными плодами. Как на райских деревцах старинных фресок.
Что не значит, будто Тель-Авив, прекрасный, щедро принимающий, это город без очарования. Значит, что оно в нем иное: утреннее, дневное, ночное.
В двух полустадиях от автовокзала, в обувном переулке у груды выброшенных, чтобы не затовариться, башмаков, под заливистые, навзрыд ликующие из колонок кларнеты и скрипки прыгали на месте хасиды. Пружина, литая резина, рыжина в бороде. Один в шелковом черном с меховой оторочкой халате, в белой навыпуск рубахе другой, религиозные белые нитки на черных штанах, оба в блескучих, золотом шитых ермолках. Два упруго подпрыгивающих, заведенно подскакивающих, в прыжках искривляемых, с улыбчато-буйной от самовозгонного хмеля, вбок отклоняемой головой. Без батарейки и экстази в неснижаемом градусе исступления, хасидское родовое хлыстовство. Опьяняясь и упиваясь, не взявши ни капли, бесчувственно к изнеможенью и боли, как босиком по горящим углям нестинары. С обезьяньим проворством тот, что в рубахе, метнулся на крышу микроавтобуса и там продолжал, сотрясая, раскачивая, держа равновесие под хлопки из толпы. Пиликали скрипки, стонали кларнеты, толстяк из Туниса в голубенькой с короткими рукавами полицейской спецовке лениво стоял у ломбардных дверей. Раздетая проститутка в гольфах до пупырчатых красноватых колен выглядывала, отвернув занавеску борделя.
На афишной, как свернешь за угол, тумбе — лицо. Я не был нужен ему (в том прямом и практическом измерении нужности, какое вкладывают в это понятие — вероятней всего, не был нужен, хоть поручиться нельзя, и сейчас, в письменном тексте я бы не поручился), но подпал мимоходом под гипноз темных запавших измученных глаз и высокого лба, облысевшего под давленьем болезни или убыстряющего ее стремительность препарата. Собранные в пучок шафрановые лучи, а к западу солнца свет тель-авивский не лимонов, не апельсинов, не яичного цвета желтка, но шафрановый с примесью меда и янтаря, и капель крови, и ложечки дегтя, непременно ложечки дегтя, разбавленной каплями крови, как если бы улицы, синагоги, мечети, белизна в семи кольцах оазисов и трущобы приморья удостоились наконец златовидности, — лучи подожгли человека с афиши. «Анастасия», общество германского языка и культуры в Арабской Республике Палестина и Эрец-Исройл, приглашало на вечер к Паулю Шербарту. Межзвездный провидец мечтал, чтоб на земле у скитальцев в каждом городе были комнаты в странноприимных домах, многоэтажных кубах, призматических колбах, объемнейших ромбах, октаэдрах, пентагонах, створчатых раковинах, кустистых кораллах, с удобством для обитателей меняющих форму вслед за движеньем светила или земным вокруг него обращением, неважно, какую взять за основу гипотезу. В комнатенке изобретателя этот самый над чертежами портрет. Пропетляв между мокрым бельем во дворе, по рассохлым ступеням на галерейку, в дырчатый короб, рогожей накрытые сундуки по бокам. Вторая налево, два с половиною раза звонить, сверлящий взгляд со стены. Работа совести, явная в этих глазах, не укоряла, не требовала, никого не пристыживала своей не применимой ни к чему здоровому бедственностью, но совершалась так тщательно и печально, словно от нее что-то зависело, и нисколько не думая о себе, иначе это была бы не совесть. Забран в квартиру на набережной, оттуда в город Петровый, Петропавловск или Петрозаводск. Через тридевять времени на афишном столбе около пляшущих под кларнеты и скрипки хасидов.
Читать дальше