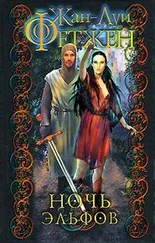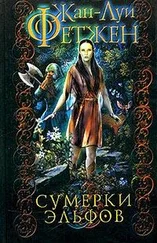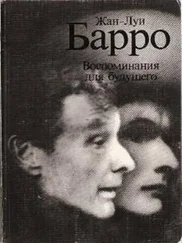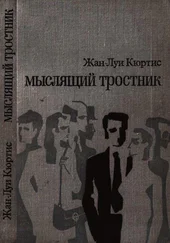Он взял книгу, наугад раскрыл ее. Это был сборник стихов. Он перечел несколько стихотворений. И словно погрузился в Лету. Поэзия, музыка, произведения искусства; пейзажи; старинные города Европы с их памятниками, их дворцами, их фонтанами; ключевая вода, деревья, цветы; шедевры литературы, где заключена и отражена самая суть человеческой жизни; предметы, рожденные искусными руками ремесленников; вот оно, лекарство от всех болезней духа, бальзам на сердечные раны, утешение… Почти все душевные горести улетучиваются, когда читаешь хорошую книгу, слушаешь прекрасную музыку. Но эти непреложные ценности, вероятно, не будут существовать вечно. Мы готовимся вступить, быть может, даже уже вступили в мрачную полосу человеческой Истории, где мечта и бескорыстность окажутся под запретом, где для таких людей, как Иоганнес, не останется места… «Реформация», — сказала Лисбет. Реформация уже зрела, в умах непримиримых молодых людей, решивших взорвать старый мир и все его авторитеты.
Когда вошла Паула, он еще был погружен в чтение. Как всегда, он встал ей навстречу. Паула выразила сожаление, что не застала Лисбет, и Иоганнес рассказал о ее визите вполне естественным тоном, хотя и опустил эпизод, касающийся Банхофштрассе. Стараясь воспроизвести долгую беседу с племянницей, он чувствовал, насколько это трудно. Казалось, разговор их тек гладко, словно был заранее отдирижирован, нацелен, и в то же время он получался сумбурным, потому что в нем приходилось делать пропуски, о чем-то умалчивать. Паула просила уточнить ту или иную деталь. Все, что касалось Лисбет, живо интересовало ее. Она полюбовалась гравюрой, кажется, оценила подарок племянницы и ограничилась лишь улыбкой, когда Иоганнес открыл ей, как эта вещица была приобретена. Он заметил, что ожидал от Паулы более суровой реакции.
— Я предполагаю, что многие молодые люди не брезгуют такими мелкими кражами, — ответила она, чтобы оправдать свою снисходительность.
— Но ты украла хоть что-нибудь, когда была молодой?
— Ни тогда, ни позже. Никогда. Ни единого пфеннига.
— И я тоже. Почему же в таком случае мы так легко прощаем это другим? Не слишком ли мы терпимы?.. Наверное, я должен был бы приказать Лисбет отнести эту гравюру туда, откуда она ее взяла?
— Она расхохоталась бы тебе в лицо. Она скорее разорвала бы ее на мелкие клочки, чем вернула.
— Да, пожалуй.
— И она тебе так ничего и не сказала, чем занималась все то время, что мы ее не видели?
— Ничего. Туманно упомянула о какой-то поездке в Дрезден. Я спросил, побывала ли она в музее. Конечно же, она об этом даже не подумала. Ты знаешь ее недоверие к «культуре» (он интонацией взял это слово в кавычки), к буржуазной культуре; так вот у меня сложилось впечатление, что оно еще более усилилось. С ней надо быть начеку. Представь себе, был какой-то момент, когда я хотел сказать ей, что сегодня вечером мы приглашены в концерт. Так, между прочим… Но я удержался. Она бы заклеймила нас за то, что мы идем туда. Для нее этот концерт — вершина ультрареакционной, чуть ли не фашистской манифестации.
— Ты думаешь, она до такой степени фанатична?
— У нее, по-моему, это не фанатизм, во всяком случае, не истинный фанатизм. Это инфантильность. Фанатики — люди обычно злобные и унылые. А Лисбет — воплощение веселости и приветливости.
Они попросили прислугу подать им что-нибудь заморить червячка. После концерта они, как обычно, пойдут поужинать в свой любимый ресторан, может быть дороговатый для них, но очень приятный, с обстановкой в стиле конца прошлого века — модернизация не коснулась его — с золотом, лепкой, помпейскими фресками, в ресторан, где даже персонал, казалось, был отмечен печатью той эпохи. Одно из немногих подобных заведений в городе, сохранившихся в первозданном виде: там можно было почувствовать себя героем романа Томаса Манна… После концерта или оперы ужин в этом ресторане являлся продолжением праздника… Им необходимо было пожить еще час-другой в мире Моцарта, Верди, Малера; и впечатления, которыми они обменивались вполголоса, почти доверительным тоном, продлевали полученное от концерта наслаждение, подыскивая для него особые слова, выделяя среди всех прочих, тех, которые они получали раньше, и тех, которые они еще получат, придавая ему собственную окраску, так что в один прекрасный день оно сразу твердо занимало достойное место в памяти и позднее его можно было извлечь из ее недр как одно звено длинной цепи, составляющей их жизнь: «Ты помнишь? Третья симфония Малера, исполнял оркестр… под управлением… на концерте в честь… и потом мы пошли поужинать к Мюльштайну и поболтали с…» Ведь именно это и было счастьем: всегда, в любую минуту жизни осознавать, что ты счастлив; Паула и Иоганнес своей обходительностью, вниманием, нежной заботой друг о друге снискали себе славу непревзойденных мастеров в этой трудной игре.
Читать дальше