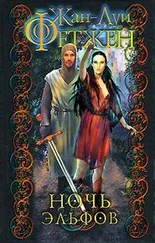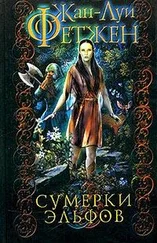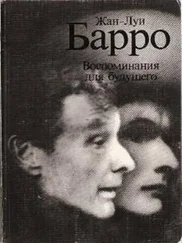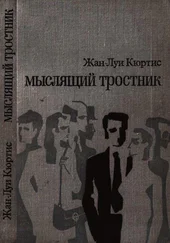Мало-помалу Бернар привык к городу, к своей вновь обретенной родине. Он прекрасно понимал, что какой-то цунами проносится над ними, как и над всей Европой, навсегда сметая множество устаревшего, устанавливая новое. Это началось ещё задолго до его добровольного изгнания, но в последние годы перемены стали особенно разительны, вот почему в первые дни он был так поражен тем, что увидел. Однако перед самым его отъездом в 1963 году его жена, дочь и сын были такими, какими он знал их всегда. Значит, они изменились после 1963 года. Так, например, слушая высказывания Сесиль, он заметил, что некоторые формулировки, некоторые штампы или лозунги, оставшись в общем почти такими же, что и в прежние времена, просто вывернуты с лица на изнанку (или с изнанки на лицо), словно палец перчатки. Там, где Сесиль до 1963 года сказала бы: «Французы неуправляемы», она теперь говорила: «Решительно, французы преклоняются перед Властью!» Вместо «Мы, возможно, совершаем ошибку, привечая у себя столько иностранцев» ныне звучало: «Мы в долгу перед третьим миром». Тусклая хризолида: «Социальное равенство — обман» превратилась в отливающую яркими красками бабочку: «Надежду на радикальные перемены мы можем возлагать только на рабочий класс», — бабочку, которая — увы! — сама опалила себе крылья в пламени мужественного прозрения: «К несчастью, рабочий класс имеет тенденцию к обуржуазиванию». Бернар больше не ужасался, слушая афоризмы жены. Впрочем, тон Сесиль, ее интонация, ее чопорный вид были точно такими же, как и прежде, так что в один прекрасный день Бернара осенило: не есть ли это современная личина благонравия? Не есть ли это новый свод правил хорошего тона, принятый в среде либеральной буржуазии семидесятых годов? Не есть ли это идеи, позаимствованные в гостиных улицы Корделье, в гостиных всех улиц Корделье всех французских городов? У Бернара было такое чувство, будто он наконец-то напал на верный след, один из тех верных следов, которые в полицейском расследовании выводят судебного следователя на правильный путь. Нужно было во что бы то ни стало не упустить его.
Много раз Бернару хотелось отвести Сесиль в сторонку и сказать ей: «Послушай, Сесиль, я не критикую твои нынешние взгляды, но мне хотелось бы узнать от тебя, как и почему ты перешла из одной крайности в другую. Ты была самой типичной представительницей консервативной буржуазии, вся нашпигованная „добрыми чувствами“. Теперь ты вдруг потрясаешь красным или по крайней мере изрядно розовым знаменем, а ведь не так уж ты враждебна классу, к которому, по сути дела, всегда принадлежала. Я знаю, только глупцы не меняются. И все-таки я хотел бы, чтобы ты объяснила мне тайну того потрясающего духовного пути, который ты прошла…» Он устоял, удерживаемый щепетильностью, великодушием (а вдруг Сесиль обидится?) и самолюбием сыщика: он сам докопается до истины. Кроме того, их отношения — вполне корректные, но, пожалуй, прохладные — не давали ему права задавать Сесиль подобные вопросы. Ведь Сесиль не спрашивала ни о его прошлой жизни, ни о его планах на будущее. Она, казалось, терпеливо переносила присутствие мужа, ожидая, когда он уедет: ведь он сказал, что уедет через несколько недель или даже через несколько дней.
Конфликт с Франсиной не сжег мосты между ними. В один прекрасный день молодая женщина как ни в чем не бывало вновь появилась на улице Корделье, разве что теперь она обходилась с Бернаром с ледяной вежливостью; она обращалась к нему только в случае крайней необходимости, но, в общем, со стороны не было заметно, чтобы они чувствовали в присутствии друг друга особое стеснение. Им случалось даже садиться за один стол то у себя дома, то в домах друзей — семья часто обедала «в городе». Тогда у Бернара появлялась прекрасная возможность наблюдать, в подробностях изучать самые свежие перемены в дочери. Он начал составлять свод наиболее часто употребляемых ею слов и выражений. Некоторые слова повторялись особенно настойчиво: «отчуждать», «вовлекать», «демарш», «специфика», «значительность»… В скудном умишке Франсины много творилось легенд, но, слава богу, не меньше развенчивалось святынь: того и гляди будут ниспровергнуты все мифы и табу. Среди эпитетов одним из самых любимых был: «взрывной». Два выражения поразили Бернара: «игровой мир» и «эротический церемониал». Нужно разрешать детям свободно веселиться в «игровом мире», а взрослым совершать «эротический церемониал», если это им по душе, бедняжкам нашим… (А может, все наоборот: взрослым «игровой мир», а детям «эротический церемониал»?) Короче говоря, мораль Франсины, судя по всему, определялась беспрерывной борьбой за то, чтобы жить «свободной» и «независимой», не поддаваясь натиску официальной лжи и «отчужденных мифов», которые стремятся закабалить ее. Можно сказать, все это было, пожалуй, не менее захватывающе, чем вестерн, в котором непорочную героиню без конца скальпируют и насилуют; но Франсина слишком мало походила на эту простодушную девушку, обычно очень стыдливую. Франсина отчаянно сквернословила, частенько прибегая к выражениям, которые можно услышать только в солдатской караулке. Но тех, кто окружал ее, казалось, это не коробило.
Читать дальше