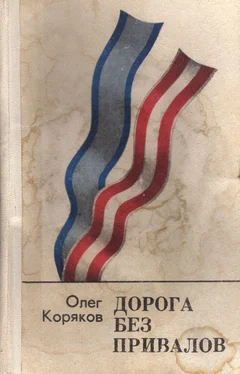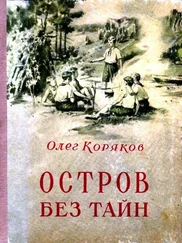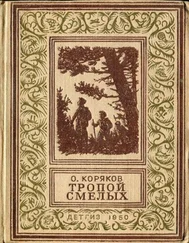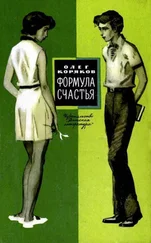Это было в начале пятидесятых годов, весной, в Москве, в дни работы Всесоюзного совещания детских писателей. Ранним утром мы, несколько человек, ехали в трамвае. Свежая после ночного отдыха, вся в солнце, Москва была прекрасна. И, глядя на нее, на вздымающиеся корпуса новостроек, Иосиф Исаакович сказал негромко и очень от сердца:
— А интересно, какой она будет в двухтысячном году. Очень интересно, черт побери! Вот дожить бы, а? Обязательно надо дожить! — И стукнув по колену своим небольшим крепким кулаком, зажегся: — А какие сюжеты, ребята, будут! Марсианские сюжеты. Млечно-путейские! — Усмехнулся уже спокойно: — Ничего, сюжетов нам и сейчас хватает. Хотите подарю? Вот, например… Хотите?
И тут же принялся рассказывать какую-то увлекательнейшую придумку. Запас таковых всегда был в его писательской «кладовой». Кроме того, ему не чужды были, видимо, и экспромты.
В его привычку, становившуюся методом, входила одновременная работа над двумя-тремя вещами. Это не значит, что он одновременно писал их, нет — работал над ними: обдумывал, выстраивал, шлифовал в уме.
Так, полностью уже написанный и во многом переписанный «Зелен-камень» он в 1946 году отложил, засунул в тот ящик письменного стола, где лежали наброски «Безымянной славы», и принялся за новую повесть. В письме своему детгизовскому редактору Надежде Александровне Максимовой сообщал:
… «Зелен-камень», наполовину отделанный и переделанный, лег под спуд. Уже несколько месяцев я работаю над повестью из жизни заводских подростков. Пока называю ее «Малышок» — по прозвищу главного героя, но, вероятно, название изменится.
… Вот пишу эту повесть, не зная, нужна ли она, пригодится ли, найдет ли печатный станок, одно знаю, что она порой мне нравится, что есть несколько неплохих страниц».
А не писать «Малышка» он не мог. Это была потребность души, откликающейся на потребность времени. Подвиг маленьких, маловозрастных тружеников войны, который они и не осознавали вовсе как подвиг, глубоко волновал Иосифа Исааковича. К тому же он видел, кем и чем становились, взрослея, те ребята, о которых писал.
Из того же письма к Н. А. Максимовой:
«Сейчас времена на Урале начались прелюбопытные, пятилетка всюду идет круто, все гремит, на заводах и промыслах много молодежи, много Малышков, ставших заправскими рабочими, стахановцами, командирами большой техники. Что ни завод, что ни промысел — то большое полотно для множества повестей». И задумки, мысли о какой-то другой, иной вещи: — «Вот нужно найти что-то такое, чтобы через это был виден весь Урал. Думаю об этом много, а все до конца недодумывается…»
Работу над «Малышком» он закончил удивительно быстро, и в 1947 году она вышла в свет. А в 1948 году повесть об уральском пареньке Косте Малышеве, по прозвищу Малышок, получила Государственную премию и затем в бесчисленных переизданиях обошла полсвета.
Работая над этой вещью — как, впрочем, и над другими, — Иосиф Исаакович любил рассказывать некоторые эпизоды и главы. Рассказывая задуманное другим, он, видимо, проверял себя: верно ли, все ли на месте, все ли ладно. Это было его методой и проявлением строгой требовательности к себе.
Однажды Ликстанов читал небольшой группе журналистов главу из «Малышка». Прочел — и сразу же:
— Ну как? Очень плохо, да? — В вопросах этих звучала тревожная озабоченность.
В ответ раздались одобрительные возгласы.
Он встал, прошелся, коренастый, насупившийся, мотнул головой с седеющей шапкой волос:
— Нет, ребята, тут еще надо подумать. Почеркать надо.
И «почеркал»: в книге эта глава оказалась почти целиком переписанной.
Он был добр к другим, к себе — нет. Он требовал от себя максимума. Постоянная требовательность к себе сказывалась и в дотошной тщательности изучения материала.
Взять, скажем, его «Безымянную славу» — книгу, которую он писал и переписывал дольше и больше других, считая ее для себя главной. Казалось бы, кто лучше Ликстанова знает материал, на котором построено это произведение, — жизнь газеты и газетчиков в годы становления советской прессы? Все это Ликстанов пережил сам. Однако работники свердловских библиотек и газетного архива могли бы рассказать, сколько утомительных, упрямых часов проводил он над книгами и подшивками газет, дополнительно изучая материал, сверяя свидетельства собственной памяти с документами эпохи.
Или, если опять вспомнить «Зелен-камень» (повесть эта вышла уже после «Малышка», в 1949 году), — немало там, и без этого было не обойтись, об уральских самоцветах. О каждом из них — хоть, может быть, упоминается он в повести лишь мельком — было читано и перечитано Ликстановым уйма, смотрено и пересмотрено — не сочтешь, спрошено и переспрошено — не войдет в толстую книгу.
Читать дальше