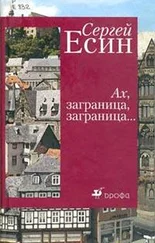Самым ужасным испытанием были русский язык и литература. Мы изучали «щик» и «чик» — суффиксы, похожие на птеродактилей; разбирали правила, у которых было исключений еще больше, чем «легитимных» моментов. И эти стишки из букварей моего детства, написанные никому не известными, кроме кассы «Детгиза», поэтами, и примерчики, вроде «Маша любит маму»!.. Ну и люби на здоровье, какого черта кричать об этом каждому первокласснику? Чья мама? Какая Маша? Сколько Маше лет?
Посмотрев как-то мой диктант, полный кровавых следов учительского карандаша, Николай Константинович сказал: «Этот мальчик оказался не по зубам академику Щербе. Пусть каждый день переписывает по страничке из «Записок охотника». — «А можно из «Трех мушкетеров»?» — спросил я. Николай Константинович ответил: «Ты слишком шустрый мальчик, чтобы быть отличником. Может быть, твоя стезя — самообразование?»
Как ни странно, Николай Константинович оказался прав. Даже в университете мне легче было прочесть десять томов рекомендованной, но необязательной литературы, чем один обязательный учебник. Любая интеллектуальная унификация вызывала у меня сон и апатию. Я горжусь тем, что не открыл ни одной хрестоматии, ни одного учебника, кроме учебника по старославянскому языку, но должен сказать, что судьба меня миловала и подбрасывала мне только нужные книги. У меня сложилось впечатление, что вообще-то судьба заранее распланировала мне путешествие по жизни, составила точный маршрут, закупила билеты из пункта «А» в пункт «Б», потом в пункт «В» и т. д. Но в последний момент билеты посыпались у нее из рук. Она собрала их в колоду и кинула мне; так я до сих пор и езжу, не потрудившись как следует разобраться в маршруте: из пункта «А» в пункт «Д», из «Д» в «Б». Но и здесь она меня не оставляет…
Первой «толстой» книгой, которую я прочел и порекомендовал товарищу для внеклассного чтения, был «Милый друг» Мопассана с отчеркнутыми мною избранными страницами. Разгневанная интеллигентная мама моего товарища сделала моей маме серьезное предупреждение. В силу этого я внимательно перечел книгу. Но как же мне после этого было не верить в судьбу, когда через четырнадцать лет профессор Самарин потребовал от меня на экзамене доложить ему проблематику и художественные особенности этого произведения. Подумаешь!. Когда знаешь текст, то и особенности с проблематикой — тьфу!
С любовью к самообразованию я не мог стать баловнем школы. Из всех школ, в которых я учился, помню лишь одну учительницу — Серафиму Петровну, научившую меня читать, да Борю Глебоспасского — прекрасного парня из генеральской семьи, дружившего со мною, неудачником и двоечником, с первого по четвертый класс, а потом после школы — с перерывом на армию — и всю жизнь. Помню также учительницу в восьмом классе школы рабочей молодежи Тамару Ивановну. Ей я тоже обязан тем, что пишу эти записки.
Мой восьмой класс школы рабочей молодежи был первым классом, который она получила после окончания университета и, как преподается литература, она, по-моему, не имела ни малейшего представления. И вот с перепугу, а еще и потому, что у нее начинался роман со старшиной милиции из нашего же класса, она и начала нам тарабанить, как на университетских лекциях. Будто бы мы все знаем об этих «образах» и «образах» и она только приводит нам все в систему. На такой безумный поступок я не мог не ответить доблестным трудом. Сердце мое забилось в унисон с великой русской классической литературой.
Вот, собственно, и все, что я помню о школе. Здесь и ответ — почему в школе не было у меня друзей.
…В друзья я выбирал людей, которые меня получше знали, надеялись на мое будущее. Я всегда был твердо уверен, что не способен сразу покорить человека, очаровать — свойству этому я всегда завидовал: моя сила — разделить с человеком духовный мир, доверить ему сомнения, планы. Так я всегда сам думал о себе, но очень удивился, когда подтверждение моей мысли услышал из уст старой журналистки: «Диму можно полюбить или с первого знакомства, или очень хорошо его узнав». А уж кто меня знал лучше моих сверстников по дому?
Постепенно и у меня в новом доме откристаллизовывалась своя компания. Главой ее оказался Витька Милягин. Главой потому, что он был самый из нас блестящий, и потому, что он был хозяином «хаты».
Витька появился в нашем доме позже, чем я, где-нибудь году в сорок восьмом. Он ходил (хоть и пацан!) в кожаном коричневом пальто, в прочных офицерских сапогах. Это вообще была униформа семьи: так же одеты были его мать, отец и сестренка. Вся семья была очень таинственная. Они отчужденно, в кожаных регланах, проходили нашими коридорами и исчезали в своей комнате на втором этаже. Там же за невысокой перегородкой находились у них раковина и кухонный стол с электроплиткой и керосинкой. Когда семья возвращалась домой, то никто из них не выходил из своей комнаты. У них даже был собственный телефон — третий в доме.
Читать дальше