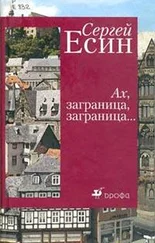…Я не успеваю взять оладушек и стучу в квартиру. Снова кусочек чистенькой кухни, белые прикрытые створки двери! А я уже бегу дальше, мельком замечая, что ближайшая к телефону дверь Анны Григорьевны чуть приотворилась — не шире, чем всунуть в щель ухо.
Со стороны подъезда, с переулка, дом наш поражал своим великолепием. Мраморные ступени через нишу, прикрытую раздвигающейся решеткой, вели в вестибюль.
Глядя на бесконечный, похожий на теннисный корт вестибюль, я, воспитанный в функциональной тесноте московских коммуналок, невольно поражался нерасчетливости владельцев: сколько же площади пропадает! Мысленно я уже прикидывал, что четыре комнаты, вернее, четыре апартамента, выходившие дверями на это щедрое пространство, по площади были меньше вестибюля.
В эти комнаты, даст бог, нам еще удастся заглянуть, а пока стоит полюбоваться на вестибюль.
Уже за мою жизнь в этом доме исчезла кованая раздвижная решетка, охраняющая вход в дверь снаружи. Кто-то отломал и, видимо, сдал в утильсырье бронзовых грифонов, стороживших три ступеньки перед парадными просторами вестибюля. Высвобождая заклинившую втулку велосипеда, я собственноручно расколол мраморный подоконник на лестничной площадке. А сколько и чего только не было вырезано на широких — формата энциклопедии — перилах. Как же быстро человек освобождается от «нетленных» примет времени! Как же, в сущности, мало оседает этих примет по берегам быстротечной реки дней, месяцев и лет… Даже совсем близкие от нас эпохи уходят, оставляя лишь скудные черты. Было вчера, казалось бы, неколебимо, вечно, недвижно, а сегодня? Где оно сегодня? Лишь веселый бульдозер ровняет последние штрихи.
В конце вестибюля плавным изгибом на второй этаж, к нам, к Раисе Михайловне и Сильвии Карловне, вплывала роскошная лестница. Ее портила только наша квартира, потому что совсем еще недавно дальний конец вестибюля, его полукруглый эркер простреливался на всю высоту здания. Военное время и здесь отыскало ресурсы: какой-то предприимчивый начальник расклинил тавровыми балками вестибюль, отделил его часть, сузил «воздух» над лестницей — так и образовалась висячая квартира. Из трех окон вестибюля, длинных, по конфигурации похожих на церковные витражи, в квартиру попадали два, вернее, их закругленные верхние части.
В самом куполе, завершающем вестибюль, наша комната оказалась ломтем, вырезанным на пробу. Новая квартира испортила парадную лестницу. Но и такой я ее преданно любил. Впрочем, так же, как и черную, с бетонными ступенями и железными прутьями поручней лестницу для прислуги.
Изредка я любил, входя в дом с переулка, представлять, как же все было раньше. Я входил в подъезд, чопорно, по-хозяйски, стуча каблуками, проходил через вестибюль и, фантазируя, что на локте левой согнутой руки я несу треугольную шляпу с петушиным пером, не спеша поднимался по мраморным ступеням. В эти минуты сердце начинало биться, я ждал, что откроется одна из высоких дверей и выйдет… Но тут звонил телефон, и Раиса Михайловна, оторвавшись от керосинки, кричала мне со своей верхотуры:
— Дима, кого там требуют?
Но чаще я бегал по черной лестнице, заплеванной, грязной, похожей на каменную трубу. Лестница вела в голубятню Макара Девушкина и в тесные комнаты Мармеладовых. Тем более что лет в двенадцать, наверное, раньше, чем кому бы то ни было из моих сверстников, мне повезло встретиться со страницами книг Достоевского. Но это другая история.
В ровное и беззаботное житье в новом доме иногда врывались события, навеки врезавшиеся в молодую память.
Постепенно мы с братом осваивались в гуще старинных арбатских переулков, среди новых знакомых, наших сверстников.
Интересы брата витали в серьезных сферах. Внезапно появилась у него наколка на руке; он скрывал от меня, что у него водились деньжата, которые он тщательно складывал под матрас, ложась спать. Но только скроешь ли что-нибудь от молодого пытливого глаза? Хотя мои интересы были ближе — во дворе, в доме, на свалке, куда из радиодома выбрасывали увлекательнейшие металлические и деревянные разности.
По субботним дням и летом устраивались казаки-разбойники. Многочисленные тонкости игры сводились в конечном счете к простенькому принципу: одни убегают — естественно, разбойники; казаки преследуют. Разбойником, как всегда, быть легче и приятнее. Что за раздолье прятаться среди ящиков, в закоулках подвалов, перепрыгивать через заборы. Вот тут-то я и спрыгнул на бравого усатого участкового Семенова. Одной правой рукой он снял меня со своего загривка, приподняв за шиворот, а левой, еще плохо двигающейся после фронта, выхватил у меня из-за пояса деревянный самопал, стреляющий спичечными головками, — какой же разбойник без нагана! — и, дав легкого пендаля, выпустил меня на маршрут. Кстати, года через три мы с ним встретились в седьмом классе школы рабочей молодежи. Расчувствовавшись после того, как я проверил ему изложение на экзаменах («Эх, Семенов, Семенов, пишешь ты, словно составляешь протокол. Это же Раймонда Дьен, сторонница мира. Она на рельсы легла, чтобы не пропустить поезд с военными грузами, а ты ее описываешь как нарушителя уличного движения» — «Но тройку, Дима, поставят?» — «Тебе за старание четверку поставят». — «Неохота учиться. Заставляют». Но Семенов, как я потом понял, врал. Он только входил во вкус учебы. В десятом классе он на выпускном экзамене решил за меня тригонометрическую задачу. А еще через десять, уже в солидном возрасте, защитил кандидатскую диссертацию. «Зачем тебе это, Семенов, у тебя пятеро детей», — говорил я ему после защиты, наливая винцо. «Для самоутверждения, Дима. Для красоты жизни. Очень ты меня с Раймондой Дьен разозлил».), — так вот, расчувствовавшись, Семенов сказал: «Спасибо, Дима. Твой самопал у меня до сих пор валяется в отделении в столе. Хочешь, верну?» Я ответил: «Спасибо, Семенов, сдай его лучше в музей детских игрушек. У меня уже другие интересы. Я уже не разбойник».
Читать дальше