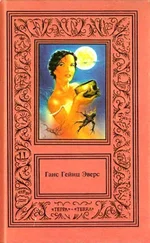— Ведь ты бы брал за свою работу деньги, чтобы было на что жить, так где же тут доброта?
Цемах растерянно и удивленно посмотрел на шурина. Торгаш задал ему сложный вопрос, подобающий мусарнику. Если он будет брать за лечение больных плату, то это не доброта, а корысть.
— Так за что же мне взяться? — вздохнул он.
— Ведь у твоей жены есть доля в нашем деле. Будешь работать вместе с нами. Тогда ты тоже сможешь помогать людям, которые должны попасть к врачу.
Ни о ком в Новогрудке не говорят с таким пренебрежением, как о лавочнике. Лавочник не может стать по-настоящему добрым, даже если из кожи вылезет. Его бог — это копейка, и он торгуется даже с Владыкой мира.
— Чтобы я стал лавочником?! — воскликнул Цемах в отчаянии.
— Я ведь тоже лавочник, — Володя не понял, почему его деверь так пришиблен, словно его заставляют стать попрошайкой и побираться по домам.
Разговор надоел Володе, и он тоскливо посмотрел на дверь: не появится ли его белая, как снег, пышнотелая Хана. От него шел пар, как от промокшего комка земли на солнце после дождя. Он потел от удовольствия и скреб под мышками.
— Но моя сестренка — горячая бабенка, а? — жуликовато подмигнул он, и Цемах ответил ему застывшим взглядом большой рыбы, вытащенной на сушу.
На следующий день после полудня Цемах спустился на склад. Слава с большими влажными кошачьими глазами ждала его возвращения. К вечеру ей пришло в голову, что пора уже стать самостоятельной хозяйкой. До сих пор свояченица Хана посылала к ней служанку с ужином. На этот раз Слава сама готовила, возилась на кухне, старалась. Когда Цемах вернулся со склада, он нашел дома уже накрытый стол. Однако он едва прикоснулся к блюдам. Жевал молчаливо и задумчиво. После еды он, опустив плечи, уселся в глубокое кресло у окна, как будто за эту пару часов на складе перетаскал целый вагон мешков муки. Слава легко присела на подлокотник кресла и положила руку ему на плечо.
— Как я вижу, хождение на склад для тебя мучение. Другие сочли бы это счастьем.
Цемах ответил, что его двоюродные братья действительно считают за счастье быть приказчиками у Ступелей. Они мелкие людишки, а их разум размером со зрачок селедки. Слава рассмеялась и спросила, почему он ставит себя на один уровень с приказчиками, ведь он компаньон.
— А что дальше? — мрачно спросил он.
— Дальше будет как у всех людей, — ответила жена и пересела с подлокотника к нему на колени, чтобы, опершись затылком на его грудь и задрав голову, посмотреть снизу вверх на его затуманенное лицо.
Его слова падали на ее волосы тяжело и медленно. Днем он будет говорить покупателям, что товар обходится ему дороже, чем они предлагают за него. Ночью он станет подсчитывать свои доходы и расстраиваться, что ему не платят или что ему нечем заплатить по предъявленным векселям, и во сне он тоже будет видеть муку и крупы. Сперва он будет молодым человеком и по субботам станет гулять с женой, толкающей перед собой детскую коляску. Позднее он превратится в состарившегося отца, имеющего неприятности от подросших детей. А что дальше?
Картина того, как она толкает детскую коляску, а муж шагает с нею рядом, Славе как раз понравилась. Однако до этого было еще далеко. Пока что ей хотелось, чтобы муж ее целовал, гладил. Она смотрела на него снизу вверх и крутила головой туда-сюда, чтобы ее волосы задевали его подбородок, нос и щеки. Своей тонкой спиной она вжималась в его грудь, а своим задом — в его живот, в его жесткие бедра, пока не ощутила, как его раздувающиеся ноздри пылко сопят над ней. Слава победно рассмеялась и проворно соскочила с его нагретых ее телом колен. Цемах увидел сзади на ее платье будто циркулем нарисованные круглые формы ее узкого зада и яростно обхватил ее руками. Однако она, дразня, вырывалась из его рук:
— А что дальше?
Ее губы с похотливой восторженностью вытянулись вперед, а глаза блестели, как у пьяного, словно она глотнула старого вина из бутылки и хочет как можно дольше сохранить на языке и в ноздрях его сладковато-терпкий вкус и запах. Напряженный и вытянувшийся во весь свой рост муж схватил ее в объятия и прорычал, что ради нее он станет и лавочником.
Повсюду на складе, куда бы ни поворачивал голову Цемах, до самого потолка лежали мешки. Ему казалось, что не только его лицо, руки и одежда побелели от муки, но и душа в нем стала уже мучной. Долго стоять в задумчивости ему не давали приказчики. Увидев, что он мечтает в задней части склада, растирая между кончиками пальцев щепотку муки, они бросались к нему. Старший приказчик вынимал из мешка пригоршню муки и показывал ему разницу между двумя сортами товара: перемолотая рожь даже после того, как проходит несколько раз через жернова, все еще жестковата и крошится. Пшеничная мука всегда желтовата и жирна, тонка, как шелк, и мягка, как бархат. Средний из двоюродных братьев Цемаха учил его разбираться в отрубях — черная ржаная труха и черная пшеничная труха. Младший брат, обладатель нахальных бегающих глаз, говорил о том, как надо торговаться: не следует сразу же называть окончательную цену. Надо начинать с высокой цены и снижать ее потихоньку. К тому же всегда надо знать, как войти и как выйти. У какого-нибудь ломжинского пекаря нельзя просить за мешочек белой муки больше, чем семнадцать с половиной злотых. Он знает цены и уйдет к другому торговцу. Просить больше можно у лавочника из чужого местечка. Однако у хозяйки, покупающей пару килограммов пшеничной муки на выпечку, можно выманить четвертак.
Читать дальше