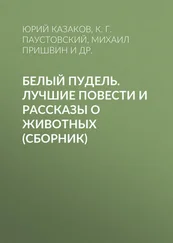О город Харьков! То был велосипед редчайших достоинств и крепости. Правда, полдороги он ехал на седоке, но иногда и вез его, давал хозяину роздых. Он скрипел и трещал, буксовал в грязи и восьмерил в песке. Он был ремонтирован десятки раз местными умельцами в мастерской МТС. Но он все переносил стоически, и вечная ему хвала.
До меня на нем ездили многие. Последним хозяином являлся прежний завотделом писем, уволенный из редакции за явной глупостью. Велосипед стонал под его стокилограммовой тяжестью, но терпел.
Теперь велосипед стал моим под расписку. Кроме меня, ездить на нем было некому: редактор выезжал редко, пристраиваясь обычно на райкомовский «газик», ответсекретаря в командировки не пускали, а мой непосредственный шеф, бывший председатель, был одноногим. Остальной штат редакции состоял из женщин, которые на велосипеде ездить не умели, да и не хотели.
Товарищ Киселев обычно собирал нас на планерку перед новым номером. Мы входили в его небольшой кабинет, располагались и, достав блокноты и карандаши (шариковых ручек еще не было, скачок прогресса еще только готовился), ждали.
Товарищ Киселев перекладывал бумаги, сурово думая о чем-то. Он всегда думал, и это совершенно точно, что думал о газете. Он был мучеником газетной полосы, ее крепостным, ее рабом. И, пожалуй, каждую минуту он ожидал ошибки в своей газете, ожидал уверенно, чувствуя определенную неотвратимость этого и последующего за этим возмездия.
Наконец он поднимал голову и выжидательно смотрел на нас. Тонкие его губы, казалось, навсегда сложились в недоверчивую, ироническую полуулыбку. Ибо он точно знал, что ничего нового и определенного, да просто ничего путного от нас он не услышит.
Был товарищ Киселев невысок, одевался по тогдашней моде — в сапоги, тем но-синие галифе и нечто среднее между гимнастеркой и толстовкой. Лицо у него было большое, блеклое, мятое, болезненное. В общем, какое-то всегда усталое. Но глаза смотрели проницательно и настойчиво.
— Ну, — говорил он, — кто что предложит в номер?
Наступала театральная пауза. У большинства сотрудников мозговые извилины были заполнены думами о домашних делах, разными хозяйственными, бытовыми вопросами. О номере толком никто не размышлял: это была какая-то абстракция, неопределенность, туманное пятно.
— Давайте, Татьяна Васильевна, — со вздохом начинал поголовный опрос редактор.
Он выслушивал наши робкие попытки сказать что-то о плане будущего номера, иногда кое-что записывал толстым синим карандашом, а выслушав, легонько пристукивал ладонью по столу, как бы прихлопывая неразвившиеся ростки нашей инициативы.
— А делать будем вот что, — говорил он.
И каждый получал конкретное задание, чаще всего не совпадавшее с его тайными надеждами. Надежда же у большинства была одна: отсидеться в редакции до следующего номера, разбирая и обрабатывая редкие письма. Я на это не рассчитывал и этого не хотел. И всегда рад был услышать:
— А ты, Воронов, бери свою машину и валяй в имени Грибоедова. Как у них там с закладкой раннего силоса?
Я выводил свой «ХВЗ», вымытый и смазанный, и начинал кросс на двадцать километров.
Дорога в колхоз имени Грибоедова была сравнительно ничего: местами булыжник, местами песчаные тропинки, но кое-где встречалась и грязь.
И я гремел по булыжнику, делал дальние объезды по борам-беломошникам, где можно ехать напрямую, без дорог, лихо пролетал по тропинкам.
Были у меня в кармане: записная книжка, карандаш и авторучка да еще удостоверение. Здоровые ноги, что без устали качали велосипедные педали, веселая пустота в голове, в которую врывались ритмы не написанных еще стихов, и крепкие руки на руле. Дорога бежала навстречу, стелилась под колесо, солнце ныряло за деревья и вновь показывалось из-за них. И жилось очень весело, легко и здорово, так как шел хороший месяц — июнь, а мне шел не менее хороший двадцатый год.
А в редакции я всего больше любил находиться не за своим столом, а в кабинетике ответсекретаря Виктора Ивановича. У редактора был кабинет, у ответсекретаря — кабинетик, а остальные работники сидели в общей большой комнате. Правда, рядом с прихожей имелась еще отдельная комнатушка, где располагалась машинистка, она же и кассир.
Виктор Иванович был лысоват, близорук, не очень опрятен. Но газетное дело знал досконально. А поскольку его посадили за макеты, то он отлично вжился в типографские дела. Макеты он делал по-старому, не размечая, а расклеивая гранки на прочитанные газеты. Наборщикам было от этого значительно легче, и Виктора Ивановича они любили. К тому же он вызывал их уважение отличным знанием заголовочных шрифтов, линеек, всего типографского хозяйства. Мог при необходимости и сам набрать заметку. Я подозреваю, что под конец рабочего дня Виктор Иванович не зря надолго застревал в типографии. Частенько он приходил оттуда веселенький, с поблескивавшими глазками. И начинал рассказывать «дамам» — так он называл сотрудниц — вполне выдержанные анекдоты.
Читать дальше

![Леонид Фролов - Жемчуг северных рек [Рассказы и повесть]](/books/28036/leonid-frolov-zhemchug-severnyh-rek-rasskazy-i-pove-thumb.webp)



![Леонид Воробьев - Конец нового дома [Рассказы]](/books/418575/leonid-vorobev-konec-novogo-doma-rasskazy-thumb.webp)
![Евгений Воробьев - Тринадцатый лыжник [Рассказы]](/books/425269/evgenij-vorobev-trinadcatyj-lyzhnik-rasskazy-thumb.webp)
![Евгений Воробьев - Нет ничего дороже [Рассказы]](/books/426767/evgenij-vorobev-net-nichego-dorozhe-rasskazy-thumb.webp)