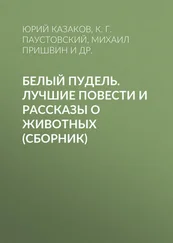В. Кулагин
Закат был какой-то необычный. Такому жаркому июльскому дню суждено было кончиться почти осенней печалью. Вдруг похолодало, хотя без малейшего ветерка, и солнце ушло багрово-красным и словно запыленным, на глазах терявшим яркость. А за ним спускались к горизонту облака, будто занавешивая зарю, и она чуть рдела из-за них. И было пустынно и грустно в лугах.
— Дождь будет, — зло бросил бригадир Деряба, мужик здоровенный, грубоватый, но всеми уважаемый. Его любили за прямоту и за то, что не жалел себя на работе. Бывал он и в колхозных председателях, да сняли его в свое время, записав: «за организацию коллективной пьянки». А сейчас он работал уже не в колхозе, а бригадиром в подсобном хозяйстве техникума. — Дождь будет, — повторил он. — Едрена мышь. Ладно, что на заливных кончили. Отметались. А завтра, чую, польет. И нога мозжит. Хотел ведь было завтра на Баронских загребать начинать.
Он сел на ступеньку крыльца, закурил и посматривал на закат, на небо. И отдыхал.
А я взял и ушел в луга. Ходил между ладными, неогороженными пока стогами, стоял на берегу реки и тоже понимал, что может установиться ненастье. Потому что словно напряглось все, затаилось и приготовилось. И потому что волнами шли запахи, речные и луговые. Словно и не текла, не двигалась река, а так, лежала себе блестящей серебряной с чернью лентой. И небо из-за туч приблизилось к земле. Менялась погода. Стало мне зябко в лугах, и я пошел к бывшей школе деревни Песочки, что стояла когда-то на возвышенном месте.
Школы на горке давно не было, сруб перевезли, а место все называли «школой». Сохранились только березы да площадка между ними, когда-то утоптанная нами до бетонной плотности. Здесь у нас был «топчак», тут по вечерам и плясали, и танцевали, и влюблялись тут же. А теперь, наверное, никто сюда не ходил: молодежи мало стало в селе, да и та собиралась на танцы в техникуме. Плясать же в эти годы уже не стали. Мода отошла.
Здесь, пока поднимался, показалось теплее. Но еще издалека, пока я еще не добрался до школы, услышал я звуки гармошки. И не поверил себе: решил, что вспомнилось былое, и зазвучало в душе. А подходя ближе, различил, что действительно играет гармошка. И, к моему удивлению, играли нашу плясовую. Потом перешли на «Семеновну». Тихонько подошел я к площадке и остановился в отдалении.
Березы развесили свои пряди почти до земли и не шумели, ни один листочек не шевелился. Тихо было в полях и на лугах. Но гармошка звучала не так уж звонко, — видно, вечер был такой, когда звук почему-то теряется, тускнеет, что ли. Играла тетя Маня Михеева, сидя на довольно высоком пне. Плясали Сонька-телятница и Вера Ивановна, комендантша. Еще пятеро женщин стояли полукругом и смотрели. Все женщины были мне знакомы; всем теперь было под пятьдесят и больше. Но никогда я не видел их пляшущими. И тем более на нашем «пятачке-топчаке». Правда, и не был я в родных местах много лет, однако ведь рос и все знал здесь.
Меня никто не заметил, и я прислонился к березе да смотрел. А известно, какие у нас в начале июля на севере ночи. Все было видно, и видел я, что возбуждены женщины, пляшут, дробят от души. И тетя Маня Михеева разошлась — играла и притопывала ногой, словно сама собиралась пуститься в пляс.
Вера Ивановна, высокая, худущая, обычно мрачноватая и неулыбчивая, вдруг выкрикнула частушку:
Самолет летит, крылья колых-колых…
Ребята хитрые, а мы хитрее их!
А Сонька-телятница, круглая, маленькая, обычно бойкая на язык, не задержалась с ответом:
Самолет летит, все знаки стерлися…
Мы не ждали вас, а вы приперлися.
«Эге! — сообразил я, различая по чуть хрипловатым голосам. — Старушки-то наши подвыпили, разгулялись».
Голос у Веры Ивановны был низкий, какой-то повелительный, а Сонька отвечала по-девчоночьи, даже с подвизгиванием. Сколько раз слыхивал я этих женщин в нашем поселке, но чтобы пели они — никогда. Сонька выдала новую припевку:
Юбка узкая да переузкая.
Полюбила мордвина, сама русская.
Вера Ивановна тут же ответила:
Семеновна, тебя поют везде,
Молодой Семен утонул в пруде.
Товарки, стоявшие полукругом, засмеялись. А до этого смотрели они молча, тихо, как будто и не было их. Точно и пляшущие, и тетя Маня, и подруги какой-то ритуал исполняли, а не веселились. Но что особенно меня поразило — что стояли они под ручку, тесно прижавшись друг к другу. Может, холодно им было… Но только стояли они точно так, как когда-то наши девчонки, когда плясали, выхаживаясь друг перед другом и перед ними, мы.
Читать дальше

![Леонид Фролов - Жемчуг северных рек [Рассказы и повесть]](/books/28036/leonid-frolov-zhemchug-severnyh-rek-rasskazy-i-pove-thumb.webp)



![Леонид Воробьев - Конец нового дома [Рассказы]](/books/418575/leonid-vorobev-konec-novogo-doma-rasskazy-thumb.webp)
![Евгений Воробьев - Тринадцатый лыжник [Рассказы]](/books/425269/evgenij-vorobev-trinadcatyj-lyzhnik-rasskazy-thumb.webp)
![Евгений Воробьев - Нет ничего дороже [Рассказы]](/books/426767/evgenij-vorobev-net-nichego-dorozhe-rasskazy-thumb.webp)