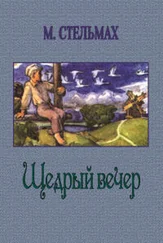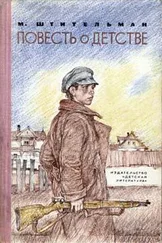Дедова хата досталась дяде Ивану и дядине [24] Дядина — жена дядьки.
Евдокии. Они без проволочек в тот же день начали срывать с нее голубые от времени и неба снопки [25] Снопки — связанные пучки соломы, которыми крыли хату.
, а саму хату — пилами разрезали пополам. Больно и страшно было смотреть, как из-под железных зубьев, точно кровь, брызнули старые опилки, как из живого теплого жилища образовалась развалина — груда изувеченного дерева, как то окно, возле которого отдыхал дедушка, вырвали со стены и, словно покойника, положили на телегу.
Прибитый горем, воспоминаниями, я забился в сад, упал на траву, заплакал, но ухо все равно слышало, как пилы зловеще рвали в клочья мое прошлое, как скрипучие телеги вывозили со двора мои дорогие годы и память…
Дядя Яков, более богатый, взял на вывоз только дедов шалаш. А нам достался латанный зелеными мхами овин с обвисшими бровями и двенадцать с половиной соток огорода.
Когда мы снесли свои пожитки в овин и положили их на ток, мать всхлипнула, а отец сказал, чтобы она слезами не размочила ток, потому что тогда не будет на чем молотить хлеб.
В отцовских серых глазах встрепенулись погрустневшие чертики, в иную пору они у него такие завзятые, что почти в танец просятся.
— Ой, Афанасий, Афанасий, как теперь будем жить? — совсем опустились руки у матери.
— Главное, жена, — не простудить зубы. Потому что чем тогда будем есть? — отец пристально взглянул на ток, который должен был стать нашей кроватью.
— Здесь и душу простудишь, — вздохнула мать и посмотрела на меня. — Мы еще так-сяк перемучаемся. А как ребенок?
— Да он молодцом выходился у нас! Еще если научится руки-ноги мыть, цены ему не сложишь! — похвалил меня отец, который очень любил воду, не разлучался с нею до самых заморозков, а зимой, пугая мерзляков, купался в снегу; поэтому и молодые румянцы не покидали его до семидесяти пяти лет.
— Дует здесь со всех сторон, — осмотрела мать овин.
— Зато сверху воробьи поют, — глянул отец наверх, где в самом деле, беззаботно чирикали, летали живкуны [26] Живкун — пичуга.
. — Не всякий вот такую роскошь имеет.
От этих слов я сразу повеселел, поднял голову ближе к птицам, а мать вздохнула:
— Теперь и мы, и воробьи имеем одно жилье. — Дале она грустно посмотрела на щели между бревнами и украдкой попросила ветры, чтобы они не собирались в нашем жилище, не простудили ни меня, ни отца.
О себе мать не вспомнила, и сколько я ее знаю, она меньше всего беспокоилась о себе и обращалась к тайным силам лишь тогда, когда уж очень въедался в тело или косточки какой-то недуг. Тогда мать говорила ему: «Отойди, болезнь, в трущобу, в болота, в безвестность, потому что мне надо дело делать».
Как она любила работать и в огороде, и в поле, и на лугу, и в лесу и тихо радоваться сделанному! Мать, как праздника, дожидалась посадку, косовицы, жатвы; она любила, чтобы снопы были хорошими, как дети, а полукопны стояли, как парни, — плечо в плечо. И очень любила в жатву после работы лечь на телегу и смотреть на звезды, на Млечный Путь, на Стожары и на тот Воз, что родился из девичьих слезинок.
— Как хорошо в тихом мире, аж слышно, как земля дышит, — вздыхая, говорила сама себе.
— А может, то наша лошадь дышит? — подсмеивался отец, который не раз удивлялся маминым словам.
— Эт, что ты смыслишь, — рукой отметала насмешку и уже прислушивалась к перепелке, которая, испугавшись серпа, перебиралась с детьми в ярину [27] Ярина — овощи.
.
— И как ты все слышишь? — удивлялся отец.
— Это, наверное, любовь моя слышит, — иногда в задумчивости говорила она и снова прислушивалась к небу, к земле, к крыльям и к всхлипыванию росы.
Этого внимания ко всему доброму, красивому выделила мать и мне. И я тоже, как праздника, жду того дня, когда гром размораживает сок в деревьях или когда не зельем, а хлебом начинает пахнуть рожь. И как досадно бывает, что такую любовь кое-кто считает пережитком или сантиментами.
Я поныне уверен, что холодный глаз обедняет и мир, и душу даже очень умным людям…
Едва мать закончила разговор с ветрами, как у ворот недовольно подала голос утка, а от ворот кто-то зашипел, цыкнул на нее. Отец изумленно глянул на мать.
— Не тот ли плетется, что засаливаться начал?
— Помолчи! — подняла руку мать. — Еще, гляди, услышит.
— Пусть слышит, скупердяга.
И вот, наступая на собственную тень, возле овина появляется дядька Владимир; до сих пор он, как мог, обходил отца — все боялся, чтобы злыдень не обратился к нему за займом. Если же они случайно встречались, дядя Владимир сразу начинал осторожно уходить в сторону и что-то мямлить о своих неудачах-нуждах, жаловаться на «такое время» и на чертову дороговизну, которая последнюю копейку вытрясает из самой души.
Читать дальше