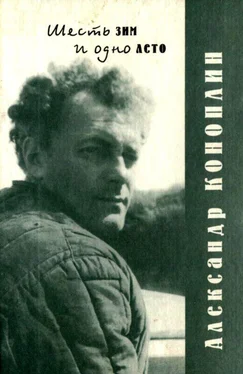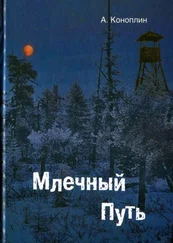Холодный пот выступил у меня на лбу. Что же теперь будет? И вдруг понял: ничего не будет! Следователь не станет раздувать мыльный пузырь — себе дороже, начальство подумает, дурак Бурылин, пора на пенсию. В крайнем случае, меня отругают… Тут я снова вспомнил о «голосах» из-за бугра. Что, если история с письмом Филиповича всего лишь для отвода глаз и через минуту следователь спросит: «Расскажи, о чем вам поведала радиостанция „Свобода“»? Это уже не бред, это преступление, и свидетелей хватает…
Должно быть, у меня был в этот момент совсем неказистый вид, потому что следователь снова подобрел лицом и спокойно сказал:
— Ладно, не переживай, будем считать, ты сам во всем признался.
— В чем признался?
— В том, что болтал.
— Но я…
— Ты допустил глупость, достойную школьника. А Филипович оказался еще глупее.
— Какую глупость?
— Фамилии «главарей» у тебя точно соответствуют наиболее распространенным фамилиям в данной республике. Сечешь?
— Секу…
— Так не бывает. Вернее, бывает у националистов. Ты же замахнулся на общесоюзную организацию.
— Гражданин полковник…
— Ладно, замнем для ясности. И займемся делом: раз есть входящая, значит, должна быть и исходящая. У тебя папирос больше нет? Что же ты, братец, идешь на допрос, а куревом не запасся? Ладно, поскучай, а я за тебя поработаю.
Он работал, а я не менее напряженно думал. Если бы полковник знал все, что я врал Филиповичу!
Бедняга Иван запомнил сотую часть. Но я не врал! Я фантазировал! Эта страсть обуревала меня с детства. В школе терпел неприятности от учителей и товарищей, в армии попал в беду. Арестовали меня не за «полуторку», хотя могли и только за это. Арестовали за некий союз, который я организовал в своей части. Тайный союз бывших десятиклассников с уставом и программой, сборищами в курилке. Детство, оборванное войной на самом интересном месте, продолжалось — нам все еще было неполных …адцать.
Один бывший профессор говорил, что мозг человека — загадка даже для ученого. Кроме известных каждому школьнику сведений о извилинах, в нем есть что-то такое, что с рождения определяет склонность к чему-то конкретному. У будущего бухгалтера он совсем не такой, как у будущего художника, поэта, певца, а ученым, по его словам, становятся еще до рождения. Зэки, слушая его, хохотали, а я вспоминал Пушкина: по математике у него были сплошные двойки. С другой стороны, рассуждения того старика-ученого шли вразрез с марксистско-ленинской теорией и смахивали на другую, преданную анафеме советской официальной наукой.
Фантазировал я всегда и всюду, но особенно плодотворно — в одиночке минской тюрьмы, где по воле следователей пробыл около года. Там сочинял и стихи, и прозу. После, в лагере, получив доступ к карандашу и бумаге, пытался записать придуманное в одиночке, но вспомнил лишь кое-что. Теперь это кое-что лежало в заначке у Вахромеева и представляло собой шесть общих тетрадей, исписанных убористым почерком. Друзья были уверены, что все, о чем писал, я видел своими глазами, во всех боях и приключениях участвовал, всех героинь любил и вообще только записывал виденное… Я никого не разочаровывал. Почему-то люди больше ценят литературу достоверную и пренебрежительно относятся к бесценному дару писателя — фантазии.
— Ну вот, — полковник потянулся так, что хрустнули суставы, — ознакомься и подпиши.
Из протокола допроса я узнал, что попал к очень строгому, даже жестокому следователю, дотошному, ехидному, опытному. Вопросы, задаваемые мне, отличались продуманностью, а ловушки, в которые я попадал, были просто гениальны. Только благодаря всему этому следователю Бурылину удалось установить, что в донесении заключенного И. Филиповича нет ни слова правды.
— Что со мной будет? — спросил я, все еще опасаясь за «голоса».
— Если бы это от меня зависело, то я бы приказал тебя высечь, а что решит начальство — узнаешь сам. Во всяком случае, брать с тебя подписку о невыезде считаю лишним.
Когда я, в полном изнеможении, опустился на ступеньки Управления, ледяные от ночного инея, колокол на зоне пятого ОЛПа возвестил о начале нового трудового дня. Ноги меня не держали, губы пересохли от жажды, глаза сами собой закрывались. «До чего же мы стали нежными!» — вспомнил я голос своего первого следователя, вырубившего мое сознание ударом кулака, и вздрогнул от легкого прикосновения. Открыв глаза, увидел склонившегося надо мной Счастливика. Лицо его было серым, осунувшимся.
Читать дальше