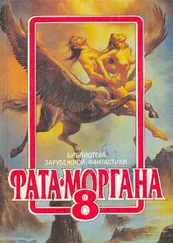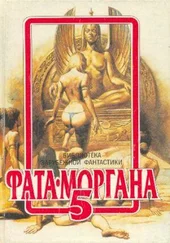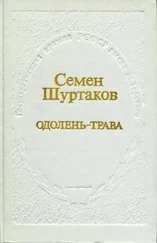Любашке все хотелось подсмотреть встречи ночи и дня, но каждый раз неодолимый сон валил ее с ног еще до того, как успевала погаснуть вечерняя зорька. А когда дочка просыпалась, по ясному небу уже гуляло солнышко.
Но вот с наступлением жаркой погоды мы перебрались спать на террасу и просыпаться стали очень рано.
Будили нас болтливые тараторки-сороки. Рядом с террасой на тех самых березах, под которыми висел наш умывальник, сороки ежедневно устраивали нечто вроде утреннего производственного совещания: куда лететь, где добывать пищу, кому и какие узнавать новости. А может, они рассказывали друг другу те новости, которыми не успели поделиться вчера, может, о чем-то спорили или просто-напросто ссорились — кто их разберет. Если Любашка в языке трясогузок что-то все же понимала, то сороки трещали так быстро, что ничего разобрать было невозможно.
Да, по правде говоря, нам не очень-то и хотелось подслушивать и разбирать всякие сорочьи сплетни, которые эта птица, как известно, приносит со всех концов на своем длинном хвосте.
Нам в это время очень хотелось спать, потому что начинали сороки свое шумное совещание чуть свет, в самый сладкий час.
Мы закрывали уши одеялами, засовывали головы под подушки — не помогало. Сороки трещали громко и неутомимо, стараясь во что бы то ни стало перекричать друг друга, и их пронзительная базарная болтовня проникала всюду, даже под подушку.
В конце концов я вставал, брал в руки палку или Любашкин мяч, картофелину — что попадало под руку — и запускал в надоедливых тараторок. Только после этого производственное совещание прекращалось и мы, уже без помех, доглядывали прерванные на самом интересном месте сны.
Однако на другое утро разговорчивые птицы появлялись на своих излюбленных березах как ни в чем не бывало.
Как-то сороки разбудили нас особенно рано. Безмятежно голубело по-утреннему свежее небо. Четко вырисовывались на нем зеленые шапки сосен и берез. Из-за дальнего взгорья выплывало золотое солнце.
— Какое оно большое и… веселое! Смеется! — удивилась Любашка, видевшая восход впервые в жизни. — И чистое!
— Наверное, только умылось, — сказал я.
— А как солнышко умывается?
— Росой. Видишь, сколько ее на траве, на цветах блестит.
— Заря-заряница, красна девица, — вспомнила Любашка, — по лесу ходила, ключи потеряла, месяц видел, солнце скрало…
На кустах смородины, росшей вдоль плетня, по самому плетню, на листьях хмеля и дальше на лугу, на хлебах — везде тяжелыми каплями лежала роса, и каждая капелька ослепительно горела и лучилась, как маленькое солнце. И тихо, торжественно все кругом было. Разве что неугомонные сороки на березах нарушали эту чистую утреннюю тишину.
Правда, на сей раз даром это для них не прошло.
На карнизе, под самой крышей, я заметил притаившегося, необыкновенно сосредоточенного Рыжика. Кот не глядел в нашу сторону, он только напряженно поводил ухом на каждое слово разговора. Все внимание Рыжика было поглощено вершинами росших рядом берез, а точнее сказать — сороками, проводившими на них свое очередное совещание.
Раз-другой мне приходилось по утрам видеть Рыжика подкрадывающимся к березам. Он внимательно наблюдал, как я пугал сорок, а однажды Любашка даже сказала своему любимцу:
— И ты бы, Котя, гонял плохих сорок, — они, болтушки, нам спать мешают.
Похоже, нынче кот именно это и собирался сделать.
— Гляди, — шепнул я Любашке. — Рыжик…
Договорить я не успел. Кот стремительно, будто им выстрелили, вылетел из засады и, как говорится, не щадя живота своего, не считаясь с тем, что такой полет на неверные, зыбкие ветки может обойтись ему очень дорого, — в мгновение ока очутился на березе и вцепился зубами в ближнюю белобокую трещотку.
По-видимому, Рыжик немного промахнулся, потому что сорока, на которую он напал, с пронзительным криком вырвалась, а в зубах у кота остался только ее хвост. С этим хвостом в зубах кот и зашумел вниз по сучьям.
Все это произошло в каких-нибудь полсекунды. Любашка даже ахнуть не успела. И вот уже так высоко сидевший кот — на земле, а перепуганная и от этого еще более крикливая стая поспешно улетает к лесу. Бесхвостая сорока изо всех сил старалась догнать своих подруг. Она смешно часто-часто махала крыльями, но ее то и дело заносило, перекувыркивало. Ведь хвост у птицы — рулевое управление, и без него сорока постоянно сбивалась с курса, летела зигзагами.
Смешно было смотреть и на обескураженного кота. Падая, он так и не выпустил из зубов сорочьи перья, разве что растерял несколько по веткам, за которые задевал. А теперь он вроде как бы не знал, что делать: то ли выдавать себя за победителя и хвастаться трофеями, то ли бросить эти трофеи — много ли в перьях проку! — и сделать вид, что ничего не случилось.
Читать дальше
![Семён Шуртаков Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] обложка книги](/books/84498/semen-shurtakov-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-pove-cover.webp)

![Владимир Марамзин - Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.]](/books/39550/vladimir-maramzin-smeshnee-chem-prezhde-rasskazy-i-thumb.webp)
![Вячеслав Шишков - Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]](/books/69192/vyacheslav-shishkov-hrenovinka-shutejnye-rasskazy-i-po-thumb.webp)