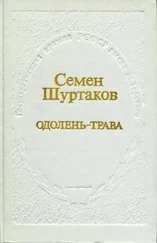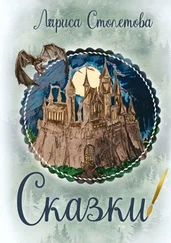Если спать, то время идет быстрее, но и спать уже надоело, а до станции, где Максиму Прилукину вылезать, еще далеко.
Пока ехал Максим в эшелоне с однополчанами чешской да польской землей, разговоры шли еще не столько о мире, сколько о войне. Теперь, среди родных русских полей, война казалась уже чем-то далеким-далеким и все мысли Максима были там, куда он ехал, — в родной деревне, в родном доме.
Вот только на соседей Максиму не повезло, даже поговорить не с кем. Напротив, уткнувшись в книжку, лежит большеносая рыжая девчонка, на нижней полке — сердитая баба с таким же надутым, неулыбающимся ребенком, под Максимовой полкой — ветхозаветный старичок с котомкой и какой-то неразговорчивый субъект в очках, в смешной, с ушами, кепке.
Снизу потянулась сизая струя крепкого махорочного дыма. Ни старик, ни смешная кепка не курили, и Максим, свесив голову, с любопытством заглянул под полку. Старых пассажиров там уже не было, вместо них сидел добродушный на вид пожилой человек в расстегнутом ватнике. Заложив ногу за ногу и откинувшись, он щурил глаза и, глубоко затягиваясь, курил.
Вдруг новый пассажир резко привстал на лавке и пристально поглядел в окно:
— Ай-я-яй. Ну разве это дело? Хотя бы сошники-то подняли, так нет, бросили средь поля и — на тебе. Эх!..
Перед окном проплывал длинный загон с сеялкой посередине.
И хотя новенький говорил, ни к кому не обращаясь, Максим почему-то принял его слова за своего рода приглашение к разговору и, обрадованный, спустился вниз.
Разговорились легко, быстро. Оказались земляками; новый пассажир только двух станций не доезжал до той, где надо было слезать Максиму. Назвался он механиком по машинам и ехал из областного города, где хлопотал насчет запасных частей.
— С севом было трудновато, — пожаловался сосед. — В тягле большая нехватка: трактора за войну поистрепались, лошадей мало, да и тех приходится кормить больше кнутом, чем овсом… С людьми тоже не густо: сам знаешь, только еще начинают с войны по домам растекаться. Трудно. А весна в этом году ранняя, дружная, тут только давай да давай…
И таким родным и близким повеяло от этого разговора на Максима! На какое-то мгновение он представил себе поля, сквозные в своей весенней наготе, кое-где изрезанные оврагами и перехлестнутые дорогами, тракторы, ползающие по ним черными урчащими жуками, лошадей, идущих парами по длинным, блестящим от влаги бороздам, а надо всем этим — высокое-высокое небо… И будто чья-то рука схватила сердце и сжала его…
— Э, где наша не пропадала… Хороший ты, я вижу, мужик! — Максим встал, поддернул со своей полки вещевой мешок и вытащил из него светло-зеленую пол-литровую бутылку. — Заветная. До дому было берег, да, видно, уж судьба ее не такая…
Небольшим, отделанным белой костью ножом, с множеством различных приспособлений, Максим ловко и быстро открыл консервную банку, сбил сургуч с горлышка бутылки и, достав из мешка маленькую алюминиевую кружку, налил ее.
— Тяни, друг. Разбередил ты мою душу. Ух как разбередил…
— Ну что ж, с возвращением, — поднял кружку сосед. Пил он медленно, как пьют холодную воду, боясь застудить зубы.
Расправив пышные, соломенного цвета, усы, Максим опрокинул свою кружку одним махом. Так выпивают положенную дозу спирта на фронте.
Закусив, выпили еще по одной. В голове приятно зашумело, и все кругом стало выглядеть куда веселее и интереснее, чем раньше. Даже поезд, казалось, пошел быстрее.
— Постой-ка, спрячь свой самосад, — скомандовал Максим, увидев, что сосед вытаскивает кисет с табаком. — Я тебя иностранными угощу, — и широким жестом достал из кармана красивый, насквозь просвечивающий портсигар.
— Что ж, для интересу закурю. Только, поди, слабоваты, — проговорил сосед, беря длинную, с золотым ободком и такой же золотой надписью, сигарету.
Читать дальше
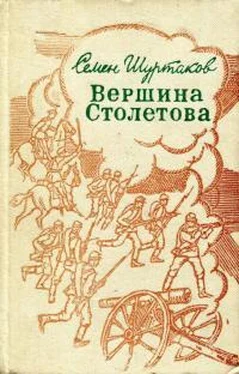


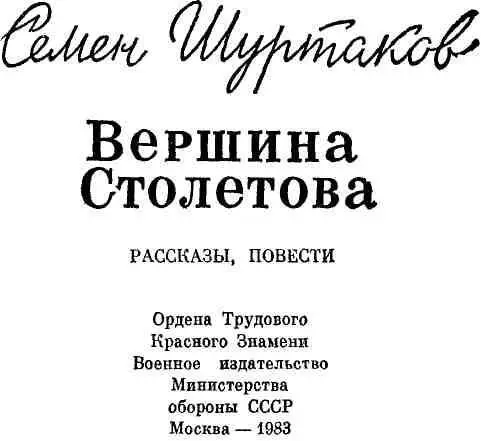


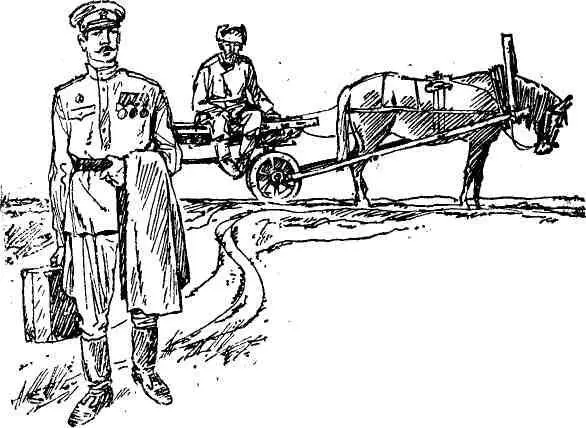
![Семён Шуртаков - Несмолкаемая песня [Рассказы и повести]](/books/84498/semen-shurtakov-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-pove-thumb.webp)